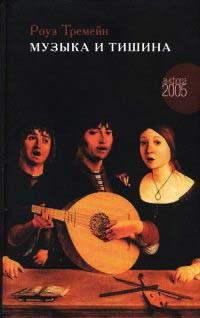Читать книгу "Дальше - шум. Слушая XX век - Алекс Росс"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Фелдман делает скорбь осязаемой в пьесе 1971 года под названием Rothko Chapel. Название взято из собрания картин Ротко, которые были помещены в экуменическом религиозном восьмиугольном здании в Хьюстоне. Ротко покончил с собой за год до этого, и Фелдман, его близкий друг, отреагировал своей самой личной, волнующей работой. Партитура написана для альта, сопрано, хора, ударных и челесты. В ней есть голоса, но нет слов. Аккорды и фрагменты мелодий проплывают, как покрытые завесой формы, окруженные глубокой тишиной. Альт играет восходящие и нисходящие фразы в широком диапазоне. Звуки ударных – на грани слышимости. Челеста и вибрафон звенят нежными кластерами. Мелькает эхо прошлой музыки, например когда хор пропевает сдержанно диссонантные аккорды, напоминающие о голосе Бога в “Моисее и Ароне” Шенберга, или когда сопрано выводит тонкую, псевдотональную мелодию, подражающую вокальным партиям в Requiem Canticles Стравинского. Этот пассаж был написан в день похорон Стравинского, 15 апреля 1971 года, – еще одна нить оплакивания в общем узоре. Но эмоциональная сфера Rothko Chapel слишком огромна, чтобы считать ее памятником одному человеку.
Незадолго до финала происходит неожиданная перемена. В альтовой партии появляется синагогальная причитающая мелодия в минорном ладовом наклонении. Фелдман написал эту музыку гораздо раньше, во время Второй мировой войны, когда посещал старшие классы школы музыки и искусства в Нью-Йорке. Этот момент сравним с моментом в “Воццеке”, когда Берг в кульминации опирается на свою раннюю студенческую ре-минорную пьесу. Мелодию сопровождают челеста и вибрафон, которые шепчут четыре ноты, отылающие к “Симфонии Псалмов” Стравинского. Мелодия звучит дважды, и оба раза хор отвечает шенбергианскими божественными аккордами.
Эти аллюзии наводят на мысль о том, что Фелдман создавал божественную музыку, подходящую к безрадостной духовности экуменической часовни Ротко. В каком-то смысле он сводит вместе два божества, представителей двух основных течений в музыке XX века: далекого древнееврейского бога оперы Шенберга и кроткий традиционный лик симфонии Стравинского. Возможно также, что красивая, грустная, звучащая по-еврейски мелодия говорит за тех, чей плач Фелдман однажды услышал из-под камней мостовой. И возможно, это миллионы поют в один голос.
Не меньше Мессиана Фелдман занимался поиском пространств духовной инаковости, в его случае, вероятно, связанных со средневековой каббалистической философией. В последние годы, с 1979-го по 1987-й, он написал серию сочинений продолжительностью час, два или даже дольше, откровенно злоупотребляя возможностями и музыкантов, и публики. Чрезмерная длина позволила Фелдману приблизиться к его главной цели – сделать музыку силой, способной изменять жизнь, трансцендентной формой искусства, которая, как он сам сказал однажды, “стирает все” и “все очищает”. Прослушать целиком исполнение двух его самых длинных пьес – “Струнного квартета (II)” (1983) и For Philip Guston (1984), шесть и пять часов соответственно – означает обрести новое сознание. Некоторые моменты словно специально испытывают терпение слушателя – как долго можно выносить повторяющуюся ноту или диссонанс? Но потом ниоткуда появляется чистая, почти детская идея. Большая часть финала For Philip Guston написана в ля миноре, это музыка непревзойденной нежности, пусть она и живет так далеко, что к ней забредают немногие из путешественников.
Музыку Фелдмана можно назвать минималистской, если иметь в виду минимальное количество нот на странице. Он был похож на Парча в его нежелании идентифицировать себя с тем, что он называл “музыкой западной цивилизации”. Чувствительность к расположению музыки в пространстве помещает его в компанию композиторов Западного побережья начала и конца XX века. Но в конечном итоге он стоит в стороне от своего времени. Ни один композитор XX века, возможно, исключая Сибелиуса поздних лет, не достигал такой непреодолимой обособленности, и нет ничего удивительного в том, что Фелдман влюбился в Четвертую и Пятую симфонии Сибелиуса.
Фелдман как-то набросал безжалостную зарисовку перспектив американского композитора. Он начинает как романтик, подающий надежды гений, переполненный оригинальными идеями – или по меньшей мере идеями об оригинальности. Затем поступает в университет и обнаруживает, что романтизм умер. Он учится шесть лет в Принстоне или Йеле, узнает о додекафонии, тотальном сериализме, алеаторике и прочем. Едет в Дармштадт, где пробует самые новые продукты европейского авангарда. “Порой он сочиняет пьесу, – пишет Фелдман. – Ее иногда исполняют. Всегда есть шанс, что ее сыграют в концертах Гюнтера Шуллера. Его пьесы хорошо сделаны. Он не лишен таланта. Отзывы неплохи. Несколько наград – Гугенхайм, премия Института искусств и литературы, Фулбрайт – это и есть официальная музыкальная жизнь в Америке”.
По существу, Фелдман представлял себе жизнь академического композитора каторгой. Он сам в зрелом возрасте преподавал в Государственном университете Нью-Йорка в Буффало, и его позицию можно было бы назвать лицемерной. Но он настаивал на том, что сочинению музыки нельзя научить, и его занятия были бесцельным блужданием – одним из эксцентричных заданий был, например, анализ Пятой симфонии Сибелиуса.
В конце 1960-х – начале 1970-х додекафонные композиторы достигли пика своего влияния. По некоторым отзывам, они, по сути, захватили власть на университетских музыкальных кафедрах по всей стране. Милтон Бэббитт, которого часто называли вдохновителем этого заговора, позже заявлял, что сообщения о его всемогуществе были преувеличены. “Хотел бы я знать, – писал Бэббитт, – над кем или над чем я имел власть, так как я вряд ли мог получить ее благодаря тем местам, где меня исполняли, публикациям, или записям, или моей неспособности заслужить хотя бы стипендию Гугенхайма”.
Независимо от того, кто правил бал, молодые композиторы с тональными устремлениями не были счастливы в университетской среде, на что намекают цветистые свидетельства композиторов и музыкантов в книге Майкла Бройлса “Диссиденты и другие традиции американской музыки”. Джордж Рочберг сказал: “[Додекафонные композиторы] основали ортодоксальную культурную церковь с ее иерархией, гимнами, верованиями и анафемами”. А вот слова Майкла Бекермана: “Попытки писать тональную музыку в таком месте, как Колумбийский университет в 1960-е или 1970-е можно сравнить с диссидентством в Праге в тот же период и с такими же профессиональными последствиями”. Уильям Мейер использовал более обыденную школьную метафору: “Сочинение тональной музыки в 1960–70-е означало очень унылое существование. От такого человека шарахались, как от подростка, который не успел потерять девственность”.
К концу 1960-х молодежь начала восставать против того, что Бэббитт назвал “сложной, продвинутой и “проблемной” деятельностью”. Рочберг, сделавший имя усердно аргументированными абстрактными композициями, обратился к гармоническому языку позднего Бетховена в своем “Третьем струнном квартете”. Дэвид Дель Тредичи, еще один додекафонный талант, дал волю романтическому внутреннему “я” в серии произведений, вдохновленных “Алисой в Стране Чудес” Льюиса Кэрролла, поздние части которых напоминают оркестровкой “Домашнюю симфонию” Штрауса. Другие возвращались к тональности кружным путем коллажа. Лукас Фосс в своих “Барочных вариациях” 1967 года переиначил Генделя, Скарлатти и Баха; Джордж Крам насытил свои пышно тембрально напористые произведения цитатами из произведений Баха, Шуберта, Малера и Равеля, не говоря уж об американских звуках банджо и гитары. Самым смелым из неотональных композиторов был преданный студент Мийо Уильям Болком, чья длинная оратория “Песни невинности и опыта” (1956–1981) по Уильяму Блейку включала все – от гимнов шейкеров до регги.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Дальше - шум. Слушая XX век - Алекс Росс», после закрытия браузера.