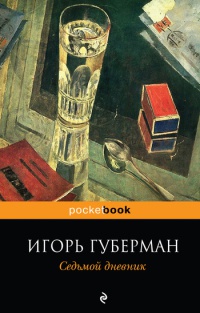Читать книгу "Но кто мы и откуда - Павел Финн"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Неужели мое место в “народной судьбе” в этой стране определено только тремя буквами на бетонной стене?
Иногда мне кажется, что моя душа — это мишень, куда летят оперенные стрелки, пущенные тысячей рук. Кто-то попадает в самый центр, а кто-то в дальний от него круг. Но попадают все.
Никакого Бога в моем детстве не было. Была мольба.
Странные и неосознанные поиски Бога в каких-то повторениях, заклинаниях, в детской, полуязыческой метафизике, в каких-то бормотаниях с просьбами, еще очень далеких от молитв, которые я тогда просто не знал.
Я молился странными словами, вздохами под одеялом, слезами. Чтобы мама снова жила с отцом. Чтобы мы не были бедными. Чтобы отчима Бориса взяли сниматься в кино — в фильм Ефима Дзигана, чтобы мы поехали в этом году на дачу. Чтобы меня не оставили на второй год. Чтобы меня не обижал Витька. Чтобы меня не бил жуткий одноклассник Борисов. Чтобы мама скорее родила…
Значит, в точности как Неточку Незванову, мучило и унижало меня наше положение и волновала мечта о возвышении ненавидимого Бориса?
Наброски из ненаписанного романа
Сашка слышит разговоры о себе.
Кто-то: мальчик очень нервный, все-таки у него было такое детство, эвакуация, болезнь, а разрыв? — это ведь очень отражается на них. (На них? — закричал внутри себя Сашка. Нас много? Нет уж! Я один!)
Но что его ждет? У него нет никаких интересов — это Борис?
Мама — про Сашку: он очень обидчив, у него очень обидчивая душонка. Это у него от меня… А характер — это от отца…
Ничтожные удары по самолюбию я переношу так же болезненно, как и в детстве. Хотя тогда я не понимал, как они ничтожны, а сейчас понимаю. Но ничего с собой поделать не могу. И ведь чаще всего этих ударов просто нет, и они только мнятся моему самолюбию.
Наброски из ненаписанного романа
Сашка не выносил это мамино слово: вещички. Он вообще не выносил некоторые ее слова. Особенно его раздражали слова с умалительными суффиксами — ему слышилось в них какое-то жалкое признание собственной бедности, ничтожности, униженности и неравноправности их состояния в том мире, о котором он пока еще только догадывался. Это было подлое чувство. И он понимал, что оно подлое, но ничего не мог с собой поделать. Только скрипел зубами. Но “вещички” было так же отвратительно, так же противно, как “душонка”, “человечек”.
Из всех летних месяцев я больше всего любил июнь — не потому, что там был мой день рождения, а потому, что от июня было все-таки чуть дальше до школы, чем от июля и августа.
В середине ночи проснуться, вспомнив, как пахнет мой пионерский галстук, только что поглаженный мамой темным, зимним московским утром, пока я собираюсь в ненавистную 59-ю школу. Галстуки были шелковые и сатиновые, для бедных. Я все-таки носил шелковый, хотя он и был нам не очень по карману. Но нельзя было опускаться так уж совсем низко.
Не с того ли времени пошла моя рабская зависимость от социальной суеты? Жизнь отучает, отучает меня от суетности, да никак не отучит…
Помню и тот запах, и то, что проглаженный чугунным утюгом алый шелк становился какого-то желтоватого, паленого оттенка.
С каким наслаждением мы, перейдя в восьмой класс, выбрасывали наши галстуки в чернильных пятнах и с изжеванными кончиками из окна физкультурного зала нашей 59-й школы в Староконюшенном переулке!
Просыпался от ощущения зимы, тоски, безнадежности. Как чернила, сильно разбавленные водой, светлело за окном небо. Шел проходными дворами, розовый, болезненный свет только что с трудом вылупившегося солнца, и скрип снега под ногами, и страх, что сегодня — спросят.
“…По дороге из дома в школу он или выбирал какого-нибудь прохожего впереди, которого надо было обогнать, прежде чем он дойдет до определенного места, или старался ступать так, чтобы каждый шаг приходился на плитку тротуара, и таким образом загадывал…”
О боже! Может ли быть совпадение более буквальным? И значит ли это, что где-то в то или иное время какой-то юный турок, или юный китаец, или юный эфиоп придумывали для себя точно то же самое? Или все-таки нас двое в этом мире?
Стивен Дедал, он же Джойс, и я.
Как бы мне хотелось взглянуть на того мальчика на бесплатной деревянной, кружащейся на железном кронштейне площадке в Парке имени Горького пятидесятых годов. Помню, как земля закачалась у него в глазах, а потом и под ногами, и стало тошно от кружения. Весело ему было, восторженно? Интересно жить?
Почему-то именно это я постоянно вспоминаю с точностью. Это было время “межквартирной” дружбы. Алёшка Габрилович, Вовка Вербенко и Нисик Вафа, сын писателяэмигранта, полуеврей-полуиндус. Все из одного подъезда. Все старше меня.
В парке я как-то, видимо, очень романтически засмотрелся на небо, наверное, что-то воображал и изображал. “Куда ты смотришь?” — спросил Алёшка. “Он смотрит в даль”, — насмешливо сказал худой полуиндус. Наверное, мне было десять лет.
51-й год, страшный, длинный ночной звонок в дверь, особенно страшный после рассказа, как в 49-м ночью брали Переца Маркиша.
Значит, я все это уже знал?
Не надо представлять себе жизнь того времени как полностью подавленную, раздавленную гнетом сталинизма. Уродливую, ужасную, кровавую — да, — но не раздавленную в тех обычных формах, в которых жизнь существует всегда, даже при самом страшном режиме. Увы, неладно бывает в любом королевстве, но все равно там живут, смеются, соединяются, радуются. Тем более, что большинству режим вовсе не казался страшным, не ощущался он как режим — что тоже было, конечно, страшно. При этом та жизнь была по-своему и живой и насыщенной, в ней многое тянулось от войны, от довоенного времени.
Сидели в большой комнате, “столовой”. Мама, Борис, я. Кто еще? Витька? Вряд ли… И я вслух из лохматой черной книжки читал Зощенко. Год, должно быть, 52-й.
Вообще я любил “острить” — это был стиль семейных разговоров. И я страшно гордился — особенно внутри себя — что я умею “острить”.
Почему-то вспомнилось, как я — маленький, лет двенадцати — тащу, изнывая от тяжести, чемодан с дачи в Москву. Дорога, станция, электричка, метро, Гоголевский бульвар, Гагаринский переулок, наконец, моя Фурманова, дом 3/5, тащу на пятый, последний этаж в нашу квартиру 67… Дотащил!
Я подробнее помню себя с тринадцати лет. Потому что это был 53-й, последний сталинский год?
Сталин и Пушкин. Действительно, кто еще был важнее для моего детства?
Наши дети всё дальше уходят от Пушкина.
Пушкин — это были тетрадки 37 года с таблицей умножения и с “На смерть поэта”, и вообще — всякое слово. А Сталин — война, героизм, греза о величии и справедливости. В моем — детском — сознании Сталин и Пушкин постоянно состязались в важности, величии, исключительности и притягательности.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Но кто мы и откуда - Павел Финн», после закрытия браузера.