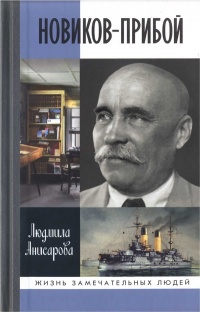Читать книгу "Виктор Астафьев - Юрий Ростовцев"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вспоминая ту пору жизни, Виктор Петрович бывал резок, с горечью говорил о страшной жизни, на которую обрек семью его легкомысленный отец. К тому же отношения с новой семьей у него никак не складывались. Мачеха должного внимания ему не уделяла, отца он тоже мало интересовал. С родней более старшей — осевшими в этих местах дедом, бабушкой из Сисима и дядьями, которые в ту пору были чуть старше самого Виктора, он тоже не нашел контакта. Впрочем, спец-переселенцы были людьми с ограниченными правами, возможно, они и не могли, если бы даже захотели, хоть как-то поучаствовать в судьбе мальчика.
Виктор Петрович оставил описание двухэтажного барака, предназначенного для спецпереселенцев, в котором ютилась и их семья. «У входа в наше перенаселенное жилище всегда лежали две маты, сплетенные из березняка, два голяка, два крепких скребка. Сортир, конечно, общественный по двенадцати очков в ряд для каждого пола. Были очереди. Тихо и мирно стояли, переговаривались. Сам сортир всегда был помыт, никакой вони; коридоры на этажах выскоблены. За порядком следили, хотели остаться людьми…»
О той поре своей жизни Астафьев рассказывал чаще с болью и горечью, особенно когда речь шла о его собственной судьбе, отношениях с родней. Он вошел в тот подростковый возраст, когда всё воспринималось особенно остро и напряженно. По сути дела, брошенной семьей мальчик фактически оказался на улице, долго беспризорничал, потом попал в детдом.
И вот этот свой детский дом он вспоминал с большой теплотой. Именно в нем он встретил людей, которые довольно сильно повлияли на его отношение к жизни, к самому себе, своему будущему. В беседах со мной Виктор Петрович нередко заводил о них разговор:
«Главное богатство моей жизни — люди, и на учителей мне повезло. Встречались люди огромной культуры. Например, Игнатий Рождественский, о котором я тебе не раз упоминал.
Другой наставник — бывший белогвардеец, штабс-капитан Соколов. В колчаковском войске сопровождал золотой эшелон. А в советское время служил кладовщиком, воспитателем. Позже стал руководить детдомом, умер директором школы на острове Полярный, это недалеко от Игарки».
Интерес ученика к своим учителям был взаимным. Рождественский и Соколов смогли рассмотреть в деревенском впечатлительном мальчишке ту искорку, которую дано увидеть не всем окружающим, которая рано или поздно пробуждает в человеке качества неординарного свойства. И, будучи педагогами от Бога, они старались сделать так, чтобы не дать ей со временем угаснуть.
С Игнатием Дмитриевичем Рождественским Астафьев продолжал знакомство на протяжении всей жизни, не только рассказывал, но и много писал о нем:
«В тридцатых годах в далекой заполярной игарской школе появился высокий чернявый парень в очках с выпуклыми стеклами и с первых же уроков усмирил буйный класс 5-й „Б“, в который и заходить-то некоторые учителя не решались. Это был новый учитель русского языка и литературы Игнатий Дмитриевич Рождественский. Почти слепой, грубовато-прямолинейный, он не занимался нашим перевоспитанием, не говорил, что шуметь на уроках, давать друг другу оплеухи, вертеться, теребить за косы девчонок — нехорошо.
Он начал нам рассказывать о русском языке, о его красоте, богатстве и величии. Нам и прежде рассказывали обо всем этом, но так тягуче и скучно, по методике и по правилам, от-куда-то сверху спущенным, что в наши удалые головы ничего не проникало и сердца не трогало.
А этот учитель говорил, все больше распаляясь, читал стихи, приводил пословицы и поговорки, да одну другой складнее, и, дойдя до слова „яр“, усидеть на месте не мог, метался по классу, горячо жестикулировал, то совал кулаками, как боксер, то молитвенно прижимал руку к сердцу, усмиряя его и себя, и выходило, что слово „яр“ есть самоглавнейшее и красивейшее слово на свете и в русском языке, ведь и название городов — Ярославль, Красноярск — не могло обойтись без „яра“, и берег обрывистый зовется яр, да и само солнце в древности звалось ярило, яровое поле — ржаное поле, яровица, ярица, которую весной сеют; ярый, яростный человек — вспыльчивый, смелый, несдержанный, а ярка, с которой шерсть стригут?..
Словом, доконал нас учитель, довел до такого сознания, что поняли мы: без слова „яр“ не то что ни дыхнуть, ни охнуть, но и вообще дальше жить невозможно…
Не выговорившись, не отбушевав, наш новый учитель не раз потом возвращался к слову ЯР, и думаю я, что в не одну мою вертоголовую башку навечно вошло это слово, но и другие ученики запомнили его навсегда, как и самого учителя, и его уроки, проходившие на вдохновенной, тоже яростной волне.
Учиться нам стало интересно, и вконец разболтавшиеся, кровь из учителей почти до капли выпившие второгодники и третьегодники… подтянулись и принялись учиться подходяще и по другим предметам.
Я сидел в пятом классе третий год по причине арифметики, поскольку уже год или больше сочинял стишки, четыре строчки из моих творений уже были упомянуты в газетном обзоре творчества школьников, считал, что поэту эта надсадная математика совсем ненадобна, что поэт волен, как птица, и всегда должен быть в полете, а в полете и вовсе скучные науки, как та же математика, химия или физика с геометрией — лишний груз…
Зато уж по русскому и по литературе я из кожи лез, чтобы только быть замеченным, а однажды и отмеченным был нашим любимым учителем, которого мы не без оснований называли малохольным, вкладывая в это слово чувство нежности, на каковую, оказалось, мы были еще способны.
„Очарование словом“ — не сразу, не вдруг определил я чувство, овладевшее нами, учениками школы, где большая часть из нас были из семей ссыльных, привезенных сюда умирать, ан не все вымерли, половина из них строила социализм, пилила и за границу отправляла отменную древесину, добывала валюту в разворованную российскую казну, а нарожавшиеся вопреки всем принимавшимся мерам живучие крестьянские дети наперебой учились грамоте и родному языку…»
Как-то в разговоре с Виктором Петровичем я решил все же более четко уяснить для себя педагогические секреты Игнатия Рождественского и попросил его поподробнее рассказать, в чем же все-таки заключались главные воспитательные приемы учителя. Он помолчал, словно подбирал в уме самые точные слова, чтобы я смог его понять…
— В требовательности и человеческом внимании. Внешне он бывал даже груб. Но, во-первых, время было таким. Во-вторых, и мы тоже были не смолянками. Но суть в другом: та грубость не касалась его существа. Просто в такой форме подачи он старался докричаться до нас, как бы разбудить к сомыслию.
Помню, для знакомства Игнатий Дмитриевич заставил нас по очереди вслух читать «Дубровского». Почти все бубнили невнятно, спотыкались. По ходу чтения почти для каждого ученика приговор безапелляционный звучал. «Болван! Дубина! Кто тебе отличные оценки ставил? Тебе во втором классе учиться!..» И так каждому, каждому. А в итоге говорит: «Только один парень из вас читает ничего, прилично…»
А парень этот — я! Первый раз меня кто-то похвалил! Дальше уж я на его уроках — из кожи лез. Впрочем, и другие ребята тоже. Я же на уроках у него стал завзятым чтецом.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Виктор Астафьев - Юрий Ростовцев», после закрытия браузера.