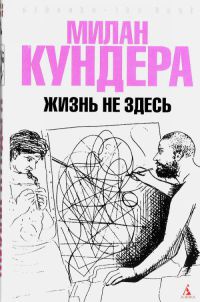Читать книгу "Нарушенные завещания - Милан Кундера"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но что означает это желание Стравинского охватить целиком всю музыку? Какой в этом смысл?
В молодости я бы без колебаний ответил: Стравинский был для меня одним из тех, кто открыл дверь в дали, которые казались мне бесконечными.
Я думал, что для этого нескончаемого путешествия, каким является искусство модернизма, он хотел призвать и мобилизовать все силы, все средства, которыми располагает история музыки.
Бесконечное путешествие, каким является искусство модернизма? Между тем я утратил это ощущение. Путешествие было коротким. Именно поэтому в придуманной мною метафоре о двух таймах, в которых протекала история музыки, я вообразил модернистскую музыку как прощальное пение, эпилог истории музыки, праздник, венчающий приключение, зарево неба на исходе дня.
Теперь я колеблюсь: даже если правда, что время модернистской музыки было столь коротким, даже если оно принадлежало всего одному или двум поколениям, даже если оно и впрямь было всего лишь эпилогом, но в силу непомерной красоты, художественной значимости, совершенно новой эстетики, синтезирующей мудрости, разве оно не заслуживает того, чтобы его рассматривали как совершенно отдельный период, как третий тайм? Не следует ли мне переделать свою метафору, касающуюся истории музыки и истории романа? Не следует ли мне сказать, что они протекали в трех таймах?
Да, это так. И я тем охотнее переделаю свою метафору, поскольку страстно привязан к этому третьему тайму в виде «небесного зарева на исходе дня», привязан к этому тайму, частью которого, думаю, я сам являюсь, даже если я являюсь частью чего-то, чего уже нет.
Но вернемся к моему вопросу: что означает воля Стравинского охватить всю эпоху музыки? Какой в этом смысл?
Меня преследует один образ: согласно народным верованиям за одну секунду предсмертной агонии пред глазами человека проходит вся его жизнь.
В произведениях Стравинского европейская музыка вспомнила свою тысячелетнюю жизнь; это было ее последним сновидением, перед тем как уснуть вечным, без сновидений, сном.
Будем различать две вещи. С одной стороны: общую тенденцию реабилитировать забытые принципы музыки прошлого, тенденцию, которая проходит через все творчество Стравинского и его великих современников; с другой стороны: прямой диалог, который ведет Стравинский то с Чайковским, то с Перголези, затем с Джезуальдо и т.д.; эти «прямые диалоги», транскрипции того или иного старинного произведения, того или иного конкретного стиля, являются манерой, присущей одному Стравинскому, она практически не свойственна современным ему композиторам (но встречается у Пикассо).
Адорно так интерпретирует транскрипции Стравинского (ключевые слова выделены мною): «Эти ноты (то есть диссонирующие, чуждые гармонии, какими пользуется Стравинский, например, в Пульчинелле. — М. К.) становятся следами насилия, к которому он прибегает против идиомы, и именно это насилие, которое в них смакуешь, и есть способ расправиться с музыкой, покуситься каким-то образом на ее жизнь. Если прежде диссонанс представлял собой выражение субъективного страдания, его грубость, изменив свою значимость, теперь становится признаком социального принуждения, которое провоцирует композитор — законодатель моды. Его произведения не имеют иного строительного материала, кроме эмблем этого принуждения, необходимости чисто внешней, не имеющей с ним ничего общего и налагаемой на сюжет извне. Вполне вероятно, что широкие отклики на неоклассицистские произведения Стравинского во многом были вызваны тем, что неосознанно и под видом эстетизма они по-своему подготовили людей к тому, что вскоре стало методически насаждаться в плане политическом».
Повторим: диссонанс оправдан, если он является выражением «субъективного страдания», но у Стравинского (моральная вина которого, как известно, состоит в том, что он отказывается говорить о своих страданиях) тот же самый диссонанс является признаком грубости; она же возводится в параллель (в результате яркой вспышки — короткого замыкания в рассуждениях Адорно) с политической грубостью: таким образом, диссонансные аккорды, добавленные в музыку, например, Перголези, предвосхищают (а значит, и готовят) новый акт политического притеснения (что в контексте конкретной истории могло означать лишь одно: фашизм).
У меня есть собственный опыт свободной транскрипции произведения прошлого — в начале семидесятых годов еще в Праге я начал писать сценический вариант Жака-фаталиста. Дидро являлся для меня воплощением свободного, рационального, критического ума, период привязанности к нему был для меня ностальгией по Западу (оккупация русскими моей страны выглядела для меня как насильно навязанный отрыв от Запада). Но представления постоянно меняют свой смысл: сегодня я сказал бы, что Дидро воплощает для меня начало искусства романа и что моя пьеса была восхвалением отдельных принципов, близких старинным романистам, которые в то же время были дороги и мне: 1) доходящая до эйфории свобода композиции; 2) постоянное соседство фривольных историй и философских размышлений; 3) несерьезный, иронический, пародийный, шокирующий характер этих же размышлений. Правила игры были ясны: то, что я сделал, не было адаптацией Дидро, это была моя собственная пьеса, вариация на тему Дидро, дань почтения Дидро: я полностью перестроил его роман; даже если любовные истории взяты у него, рассуждения в диалогах скорее мои; любой читатель может сразу же заметить, что некоторые фразы никоим образом не могли выйти из-под пера Дидро; XVIII век отличался оптимизмом, мой же таковым уже не отличается, сам я — и того меньше, и персонажи Господина и Жака у меня заходят так далеко в своих скабрезностях, как немыслимо для века Просвещения.
Получив собственный небольшой опыт, я могу лишь признать дурацкими высказывания по поводу огрубления и насилия у Стравинского. Он любил своего старого мэтра, как я любил своего. Прибавляя к мелодиям XVIII века диссонансы XX, возможно, он представлял себе, что интригует своего мэтра, живущего в отдалении, что он расскажет ему что-то важное о нашем времени и, может быть, позабавит его. У него была потребность обратиться к нему, поговорить с ним. Транскрипция-игра старинного произведения была для него способом установить связь между столетиями.
До чего странный роман — Америка Кафки: в самом деле, почему этот молодой двадцатидевятилетний прозаик перенес действие своего первого романа на континент, где никогда не бывал? Этот выбор показывает ясное намерение: не создавать реализм; или точнее: не создавать ничего серьезного. Он даже не попытался замаскировать свое незнание, изучив предмет; он создал собственное представление об Америке на основе второсортных книг, дешевых картинок, и впрямь образ Америки в его романе (сознательно) состоит из клише; что же касается персонажей и фабулы, вдохновения в целом (как он признается в своем дневнике), это Диккенс, в частности Дэвид Копперфильд (Кафка определяет первую главу Америки как «чистое подражание» Диккенсу): он заимствует оттуда конкретные мотивы, их перечисляет: «история зонтика, каторжные работы, грязные дома, возлюбленная в загородном доме», он черпает вдохновение в персонажах (Карл — это тонкая пародия на Дэвида Копперфильда), а главное — в атмосфере, в которую погружены все романы Диккенса: сентиментализм, наивное разделение на хороших и плохих. Если Адорно говорит о музыке Стравинского как о «музыке, созданной из другой музыки», Америка Кафки — это «литература, созданная из другой литературы», и даже в этом жанре она является произведением классическим, если не основополагающим.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Нарушенные завещания - Милан Кундера», после закрытия браузера.