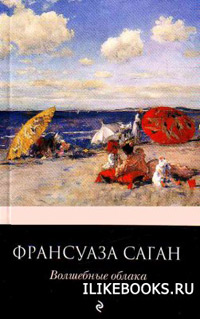Читать книгу "Вернуть Онегина - Александр Солин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Листья – короткочерешковые, сидячие, цельнокрайние, пальчатолопастные, перисторассеченые на линейные или нитевидные, узколанцетные расставленные доли, дважды перисто-раздельные с тонкими, почти нитевидными долями, не говоря про совсем маленькие, редуцированные до чешуевидных влагалищ. Края их зубчатые, мелко-тупозубчатые, пильчато-зубчатые, городчатые, с немногими редкими зубчиками в верхней части, в нижней цельнокрайные. Бывают опушённые, длиннореснитчатые, железисто-реснитчатые, с редкими рассеянными волосками. Цвета зелёного или серого из-за густого опушения.
Цветки обычно двудомные, редко однодомные. Мужские колоски сидячие или на ножках, состоят из черепичато расположенных парных прицветников, окружающих тычиночную колонку, иногда ветвистую, с сидячими пыльниками в верхней части. Женские колоски часто скучены в соцветия, сидячие или на длинных ножках, с семяпочками, окружёнными парами более или менее сросшихся прицветников.
Околоцветник двойной. Чашечка на три четверти или полностью рассечена на пять эллиптических, широколанцетных, ланцетных или линейно-ланцетных реснитчатых долей, из которых одна недоразвита, более короткая и узкая, короче или немного шире остальных, или две передние более длинные, две средние вдвое, а пятая втрое короче передних.
Плоды представляют собой или ложную ягоду с мясистым желтоватым или красным покровом, образовавшимся из сросшихся мясистых прицветников, или сухой плод, окружённый плёнчатыми прицветниками. Семена с эндоспермом.
И это, Аллочка, лишь малая часть той поэзии, что здесь живет и, разбегаясь в разные стороны, возвращается к нам ударной волной чувственного взрыва. Ее ароматной воле невозможно противиться, ее душной просьбе нельзя отказать. Ее разложимый на миллионы бликов и запахов мир нежными щупальцами проникает глубоко внутрь, принуждая наш инстинкт к сотворению жизни – пусть притворной и бесплодной, но ритуалом сотворения совпадающей с настоящей: зачатие, рождение, хриплая смерть и новое зачатие, и новая стонущая смерть в объятиях друг у друга, и новая пауза между ложным зачатием.
Ах, Аллочка! Иди скорее ко мне!
И она, оглушенная запахами, солнцем и любовью идет к нему, и то море обожания, которое ее укачивает, приводит ее в состояние тихого, почти молитвенного счастья.
«Ты знаешь, почему большинство растений зеленого цвета?» – бормочет он.
«Нет! – оторвав голову от его груди, смотрит она на него. – Почему? Скажи!»
«Потому что все другие цвета солнечного спектра поглощаются растением и работают на него. Один только зеленый цвет, тунеядец чертов, работать не хочет и отражается в пространство…»
Вечерами они являлись в городской парк, где побродив под пыльной сенью аллей и поглазев на танцы, присоединиться к которым им, помолвленным, мешало галантерейное легкомыслие и гастрономическая всеядность танцующих, отправлялись гулять под ручку по главному проспекту города – он же Бродвей, он же провинциальный подиум. Медленно и степенно шли по твердеющему после жары тротуару на виду у высоких, плоских, похожих на розовое рыбье филе облаков. Гаснущее небо распускало на остывающем горизонте цветы побежалости, теплый воздух сгущался, тускнел, не признавал прохлады.
Сашка – видный, содержательный, многообещающий, она – знойная, смуглая, приталенная и, глядя на них, нельзя было не признать, что слепое сводничество судьбы их миловало и что фортуна в тот день, когда свела их, была трезва и благосклонна.
Самое удивительное, что ему с ней не было скучно. Деятельное любопытство – вот та похвальная черта ее натуры, которая к этому времени проявилась у нее во всей полноте. Читала она мало и оттого жадно внимала ему, когда он пускался в пространные, по сути дилетантские, но богатые на умничанья литературные разговоры. Была светская колода книг, по преимуществу иностранных, которую должен был уметь тасовать всякий уважающий себя студент, глубокомысленно выкидывая по случаю ту или иную книжную масть. В ее случае это был сначала Зощенко, потом Ремарк, и затем Булгаков. Судя по вопросам, которыми она его перебивала, интерес ее был глубок и неподделен и льстил ему. Кстати, уехав, он снабдил ее стопкой книг, которые она должна была к следующему разу обязательно прочитать. Там среди прочих были чуднóй Бальзак и Грин, под парусами которого она, борясь со штормами неохоты, и доплыла до последней корки последней книги.
Помимо этого, она любила расспрашивать о театре, особенно когда он упоминал артистов, которых она видела в кино.
«Какие они в жизни?» – затаив дыхание, спрашивала Алла Сергеевна.
«Ничего особенного… – небрежно отзывался он, и если речь шла об актрисе, добавлял: – До тебя ей далеко!»
Ее интересовало, как устроен механизм высшего образования и из чего состоит студенческая жизнь. Он рассказывал, и ее ревнивое воображение находило в его рассказах много свободного времени и соблазнов.
Он любил, когда она солировала, и часто просил ее оценить наряды, которые двигались им навстречу. Она охотно разбирала их по косточкам и ниточкам, и все замечания ее звучали дельно и убедительно. В свою очередь она спрашивала, что носят женщины в Москве, и он, далекий от нужных слов, пользовался другими, случайными, похожими на нужные смутными силуэтами, отчего изложение его приобретало поэтический окрас, который она тут же переводила на язык вытачек, заломов, пройм, обтачек, линий груди, талии и подбортов.
«Хм! Фиолетовое с зеленым? И белый подол? Что ты говоришь! Интересно!» – задиристо отзывалась она.
Во время прогулки они обязательно натыкались на знакомых, иных приветствуя взмахом руки, других останавливая и делясь взаимной симпатией. Она так выгодно и ярко выделялась на фоне его статуса столичного студента, что часто ей уделялось больше внимания, чем ему.
Как ни были они с матерью бедны, но она своим ранним трудом собрала к этому времени небольшой гардероб, которым вместе с присущей ее фигуре струнностью ирландского танца, умело пользовалась, каждый раз добавляя новизну в свои скромные наряды, да так удачно, что подруги его друзей, как, впрочем, и сами друзья разглядывали ее во все глаза. Сашке их внимание определенно льстило.
Иногда договаривались о вечеринке, и она научилась на них ловко уклоняться от глубокомысленных вопросов его друзей, которые задавались, скорее, с целью обратить на себя внимание, чем получить толковый ответ. Она наблюдала, как Сашка ведет себя в компании, замечала его громкое, если не сказать, навязчивое притяжение и опасный блеск устремленных на него женских глаз. Она печалилась, огорчалась и ничего не могла с собой поделать. После вечеринки он тормошил ее, молчаливую, она же натягивала на грустное лицо беспечную улыбку, и от такого сочетания становилась похожа на египетскую богиню зубной боли. Впрочем, случалось такое не часто. В остальных же случаях они возвращались после гуляния в ее каморку, наполняя ее воркующими беседами и голубиными поцелуями. В отсутствие матери они предавались жарким, безрассудным спариваниям.
Свободная, счастливая, новобрачная жизнь – это про то их лето. Да, да, именно: никогда ее личное небо не было так безоблачно и высоко, как летом восемьдесят третьего, и даже сегодня воспоминание о нем невянущим ростком высится над утрамбованной поверхностью памяти. Большей частью, наверное, потому что в то лето ее тугокрылая юность сознательно и неукротимо вознеслась в область заоблачных откровений и обрела в них свой идеал. И только малой частью оттого, что это по определению было последнее лето, когда она могла отдавать ему все свое влюбленное время – на следующий год она уже будет работать. Но она уверена – будь у них все хорошо, она бы и следующее лето и еще пятьдесят июлей с августами сделала бы счастливыми.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Вернуть Онегина - Александр Солин», после закрытия браузера.