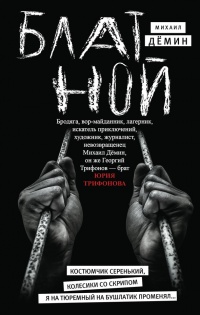Читать книгу "Пианист. Варшавские дневники 1939-1945 - Владислав Шпильман"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Тут в перерывах между выступлениями я встречал множество знакомых, с которыми можно было поговорить, и мне бы здесь даже нравилось, если бы не постоянно мучившая меня мысль об обратном пути домой.
Шла тяжелая для гетто зима 1941/1942 года. Островки относительного благополучия еврейской интеллигенции и роскоши спекулянтов тонули в море еврейской нищеты, уже тогда доведенной до крайности голодом, холодом и вшами. Гетто кишело насекомыми, и уберечься от них было невозможно. Вши были везде — на одежде прохожих, внутри магазинов и трамваев, вши ползали по тротуарам, жили на лестницах домов, падали с потолков официальных учреждений, куда приходилось обращаться по многим вопросам. Вши прятались в сгибах газет, на монетах и даже на свежем хлебе, и каждое из этих существ могло быть носителем сыпного тифа.
В гетто началась эпидемия… В месяц умирало до пяти тысяч человек. Тиф был главной темой разговора у всех — богатых и бедных: бедные гадали, когда от него умрут, а богатые — как от него защититься и где достать вакцину доктора Вейгеля, выдающегося бактериолога, ставший фигурой не менее известной, чем Гитлер.
То были два символа — добра и зла противостоящих друг другу. Говорили, что доктора арестовали во Львове, но, слава Богу, не убили, а тут же признали «пранемцем» honoris causa, предложили прекрасную лабораторию, виллу и превосходный автомобиль, но при этом установили за ним надзор гестапо, тоже превосходный. Вейгель должен был производить как можно больше вакцины для завшивевшей немецкой армии на восточном фронте.
Говорят, доктор не принял ни виллы, ни автомобиля. Не знаю, как было на самом деле. Знаю только, что доктор выжил и немцы, после того как он открыл им рецепт своей вакцины, и перестал быть нужен, каким-то чудом все же не отправили его в одну из своих «превосходных» газовых камер.
В любом случае, — благодаря его открытию и немецкой коррупции, многие варшавские евреи избежали смерти от тифа, хотя потом им все равно довелось умереть — иной смертью.
Я не стал прививаться. Моих средств хватало на одну-единственную дозу вакцины, другие члены семьи оставались без нее. Так я поступить не мог.
О том, чтобы вовремя хоронить умерших от тифа, не могло быть и речи. Дома их тоже не оставишь. Люди шли на компромисс: раздетых мертвецов — одежда теперь была в цене — оборачивали бумагой и складывали на тротуар перед домом. Там они лежали, нередко по многу дней, затем местные власти забирали их, и хоронили на кладбище в общих могилах.
Из-за этих, умерших от тифа или от голода людей, мои возвращения домой превращались в кошмар. Я уходил с работы одним из последних, вместе с хозяином, после подсчета дневной выручки и получения своего жалованья. Было темно, улицы почти пусты. Я светил себе фонариком, чтобы не споткнуться о мертвое тело. Холодный январский ветер дул в лицо или толкал в спину, шелестел бумагой, в которую были завернуты трупы, приподнимал ее, обнажая высохшие кости, тощие ноги, запавшие животы, ощерившиеся рты или уставившиеся в пустоту глаза.
Тогда я еще не привык видеть трупы. Полный страха и отвращения, я пробирался по улицам, чтобы как можно скорее оказаться дома, где меня ждала мать с блюдцем спирта и пинцетом. В то опасное время она старалась как можно лучше заботиться о здоровье семьи. Мать никого не впускала в дом дальше прихожей, где тщательно проверяла пальто, шляпу и костюм и собирала вши, которых затем топила в спирте.
Весной, поближе сойдясь с Романом Крамштыком, я часто после работы, вместо того чтобы идти домой, шел к нему на Электоральную, где мы болтали до поздней ночи.
Хозяин этой квартиры был счастливчиком. Он жил в своем собственном маленьком королевстве. Комнатка с покатым потолком на последнем этаже доходного дома хранила все богатства, которые ему удалось сберечь, несмотря на грабежи немцев: широкий диван, покрытый килимом, два антикварных кресла, чудесный комодик в стиле ренессанс, персидский ковер, старинное оружие, несколько картин и множество мелких вещиц, в течение ряда лет привозимых сюда из разных частей Европы. Каждая из них была настоящим произведением искусства и радовала глаз. Хорошо было сидеть в этой комнатке, попивая кофе и весело болтая при желтоватом приглушенном свете лампы, украшенной колпачком, сделанным когда-то самим хозяином. Перед сумерками мы ненадолго выходили на балкон подышать свежим воздухом, который здесь, высоко, был чище, чем в запыленном и удушливом лабиринте тесных улиц.
Приближался комендантский час, люди закрывались в домах, низкое весеннее солнце заливало розовым светом крытые железом крыши домов; в голубом небе чертили круги большие стаи белых голубей, а из расположенного неподалеку Саксонского сада плыли над домами и попадали сюда, в обиталище проклятых, волны аромата сирени. Приближалось время детей и сумасшедших.
Мы с Романом вглядывались в глубину Электоральной улицы, ожидая появления «дамы с плюмажем», как мы называли нашу помешанную. Вид у нее был необыкновенный. На щеках ярко-розовые румяна, брови от виска до виска соединены одной линией шириной в сантиметр. На черное разорванное платье накинута старая зеленая бархатная портьера с кистями, а из соломенной шляпы вертикально торчит большое фиолетовое страусиное перо, которое чуть колышется в такт поспешным и неверным шагам безумной. Она то и дело останавливала прохожих и спрашивала их, вежливо улыбаясь, о муже, убитом немцами на ее глазах:
— Извините… Вы случайно не видели Исаака Шермана? Такого высокого элегантного мужчину с седой бородкой… — и напряженно всматривалась в лицо прохожего, а когда слышала отрицательный ответ, восклицала разочарованно:
— Ах нет? — и на мгновение ее лицо стягивала болезненная гримаса, но тут же исчезала в учтивой принужденной улыбке, — Прошу прощения, уважаемый, — и быстро уходила, качая головой от неловкости за то, что отняла время, и вместе с тем удивляясь, как можно было не знать ее мужа Исаака, такого изысканного и приятного мужчину.
Обычно в это время на Электоральной появлялся Рубинштейн. Крутя тростью, он бежал вприпрыжку по улице в грязных, развевающихся на ходу лохмотьях и мурлыкал что-то себе под нос. Рубинштейн пользовался в гетто большой популярностью. Его можно было узнать издалека, едва заслышав его обычную присказку: «Давай, держись!» Он хотел одного — помочь людям сохранить присутствие духа. Его анекдоты и шутки ходили по всему гетто, поднимая людям настроение. Одним из его трюков было приблизиться к немецкому патрулю и, дергаясь и гримасничая, обзывать их дураками, бандитами и шайкой воров. Немцы от души забавлялись и часто бросали Рубинштейну мелочь и сигареты в качестве платы за его оскорбления, — ведь к сумасшедшему нельзя относиться серьезно. Я, в отличие от немцев, сомневался и сомневаюсь до сих пор, действительно ли он разделил участь множества людей, в результате пережитых ужасов потерявших рассудок, или же только изображал полоумного, чтобы шутовской колпак помог ему избежать смерти. Это, впрочем, ему все равно не удалось.
Помешанные игнорировали комендантский час. Для них он не существовал. Дети вели себя так же. Из разных закоулков, подвалов, сеней — мест их ночевок — выныривали детские тени в надежде, что, может быть, в этот предвечерний час им удастся пробудить жалость в людских сердцах. Они вставали под уличными фонарями, вдоль тротуаров, на мостовой и, глядя на вас снизу вверх, монотонно стонали, что они голодны. Кто мог, пробовал петь. Тонкими, слабыми голосками пели они о молодом солдате, раненом на поле боя, умирающем в полном одиночестве и зовущем: «Мама!» Но мамы рядом нет. Она далеко и не узнает, что сын умирает, его качает лишь мать-земля, успокаивая шелестом деревьев и трав: «Спи, сыночек, спи, любимый!», а вместо креста «За заслуги» на мертвую грудь падает с дерева цветок — его единственная награда.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Пианист. Варшавские дневники 1939-1945 - Владислав Шпильман», после закрытия браузера.