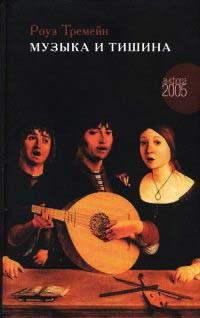Читать книгу "Дальше - шум. Слушая XX век - Алекс Росс"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Шостаковича, вероятно, не ожидали никакие серьезные последствия в случае отказа от должности или членства в партии. В 1960-е молодые музыканты активно сопротивлялись эстетическим партийным ограничениям, изучали додекафонные и авангардные техники, объединялись с диссидентскими движениями. Они были в ужасе от конформизма Шостаковича. “Наше разочарование не знало границ, – сказала молодой композитор София Губайдулина. – Мы недоумевали, почему в тот момент, когда политическая ситуация стала менее строгой, когда наконец стало возможным сохранять свои принципы, Шостакович пал жертвой официальной лести”. Позже Губайдулина сказала, что начала лучше понимать, что пережил Шостакович.
Этот последний кризис заставил Шостаковича написать едкий, полный самобичевания Восьмой квартет, одно из самых необычных автобиографических произведений в музыкальной истории. Он был написан всего за несколько дней после визита в Дрезден, где режиссер Лев Арнштам снимал “Пять дней – пять ночей” – фильм о союзнической бомбежке в феврале 1945 года.
Несомненно, поездка в Дрезден повлияла на удрученную интонацию Восьмого квартета, но письма Шостаковича свидетельствуют о том, что посвящение “жертвам фашизма и войны” служило своего рода прикрытием его собственной душевной боли. Он писал Гликману: “Можно было бы на обложке так и написать: “Посвящается памяти автора этого квартета”. <…> Псевдотрагедийность этого квартета такова, что, сочиняя его, я вылил столько слез, сколько выливается мочи после полдюжины пива. Приехавши домой, два раза пытался его сыграть и опять лил слезы. Но тут уже не только по поводу его псевдотрагедийности, но и по поводу удивления прекрасной цельностью формы. Но, впрочем, тут, возможно, играет роль некоторое самовосхищение, которое, возможно, скоро пройдет и наступит похмелье критического отношения к самому себе”.
Личная тема DSCH, которая звучала в финале Десятой симфонии с фальшивым торжеством, пронизывает каждую страницу Восьмого квартета. Она появляется рядом с цитатами из других работ Шостаковича, включая Десятую симфонию, “Леди Макбет Мценского уезда”, юношескую Первую симфонию, – и это если не упоминать “Патетическую” симфонию Чайковского, похоронный марш Зигфрида из “Гибели богов” и революционную песню “Замучен тяжелой неволей”. Иронизировал ли Шостакович, когда описывал квартет как упражнение в самовосхвалении? Такое описание могло бы подойти к финалу Десятой симфонии, но оно кажется неподходящим для Восьмого квартета, который замирает в черной статике оплакивания. Последние страницы партитуры удивительным образом напоминают о “Питере Граймсе”, в котором рыбак может лишь петь свое имя: “Граймс! Граймс! Граймс!” Это предельный момент утраты собственного “я”.
Безотрадная психологическая территория поздней музыки Шостаковича везде пересекается с Бриттеном. Шостакович много работал в любимом бриттеновском жанре вокального цикла. “Семь стихотворений Александра Блока”, “Шесть стихотворений Марины Цветаевой” и “Сюита на слова Микеланджело Буонарроти” – последняя, возможно, была вдохновлена песнями Бриттена на стихи Микеланджело – демонстрируют новый, экономичный подход к переложению слов на музыку, тогда как сами тексты резонируют с жизнью композитора в полуисповедальном стиле, который Бриттен усовершенствовал в своих “Озарениях” и “Серенаде”: татары, убийства и голод (Блок); царь как убийца поэтов (Цветаева); Рим, разоренный жадностью и жаждой крови (Микеланджело).
Самое смелое политическое высказывание Шостаковича о хрущевской оттепели было сделано в Тринадцатой симфонии, написанной на антисталинские стихи Евгения Евтушенко. Первая часть, “Бабий Яр”, оплакивает страдания евреев в нацистский период, но это также и напоминание о жизни при Сталине. Евтушенко посвящает один отрывок изображению Анны Франк, которая со своей семьей прячется на чердаке: “Иди ко мне! <…> Ломают дверь? Нет – это ледоход…” Шостакович отвечает серией диссонансных, стучащих аккордов, которые своим особенным опустошенным звуком напоминают не только о руке убийце, стучащей в дверь, но и об ужасе, охватывающем тех, кто ждет за этой дверью.
Бриттен тем временем вернулся к созданию камерной и оркестровой музыки, которой он пренебрегал. Между 1964 и 1971 годами он написал три большие сюиты для виолончели, вторящие напряженному языку квартетов Шостаковича и одновременно отдающие честь Баху. Начало Второй сюиты почти нота в ноту цитирует первую тему виолончели из Пятой симфонии. Сюита, конечно же, была предназначена Ростроповичу, для которого Бриттен в 1962 и 1963 годах также написал Симфонию для виолончели, единственную крупную оркестровую работу своего позднего периода. Здесь тоже влияние Шостаковича ощутимо, хотя и не вездесуще. Последняя часть представляет собой еще одну пассакалью, интонационно скорее оптимистичную, чем трагичную. Как отмечает Людмила Ковнацкая, оба, Бриттен и Шостакович, использовали вариации на остинатный бас, чтобы передать неизбежную напряженность современного бытия – “метафора жизни как цепи метаморфоз в пределах замкнутого рокового круга… духовное пространство, располагающееся между обыденной жизнью и Вечностью”.
В 1969 году Шостакович увековечил дружбу, поставив имя Бриттена на титульный лист своей Четырнадцатой симфонии – цикла песен на стихи Лорки, Аполлинера, Рильке и Вильгельма Кюхельбекера. Посвящение скреплено цитатой: в последних тактах первой части ход контрабасов на большую септиму и обратно напоминает о “Сне в летнюю ночь”. Но Четырнадцатая близка к тому, чтобы поставить под сомнение не лишенный надежды бриттеновский взгляд на мир. Как в “Серенаде” и “Ноктюрне”, стихотворения организует общая тема, в данном случае тема смерти. В замечаниях перед генеральной репетицией Шостакович назвал несколько работ, включая “Военный реквием” Бриттена, которые пытаются описать “особенное свечение”, или “высший покой” познания смерти. Сам он, по его словам, намеревался изобразить смерть без сантиментов. “Смерть ждет нас всех, – сказал он аудитории, – и лично я не вижу ничего хорошего в окончании нашей жизни”. Последние такты симфонии больше всего похожи на предсмертный крик.
Странное событие на премьере подчеркнуло сверхъестественный характер симфонии. Во время исполнения пятой части чиновник от культуры Павел Апостолов, который когда-то порицал “мрачные, интровертные взгляды” Шостаковича, вышел из зала в такой спешке, что его кресло откинулось вверх с громким хлопком. Многие сочли, что таким образом он выражал недовольство. На самом деле у него случился сердечный приступ, и он покинул здание на носилках. “Я не хотел, чтобы случилось именно это”, – сухо прокомментировал Шостакович. К концу месяца Апостолов умер. Коллеги композитора заметили, что в пятой части симфонии есть слова “То пробил Смерти час”.
И все же это с виду мрачное произведение предполагает нечто вроде надежды на жизнь после смерти – речь идет о бессмертной солидарно-сти между художниками, которые переступают границы своего времени. В центре симфонии лежит стихотворение Кюхельбекера “О Дельвиг, Дельвиг”:
О Дельвиг, Дельвиг! Что награда
И дел высоких и стихов?
Таланту что и где отрада
Среди злодеев и глупцов?
<…>
В руке суровой Ювенала
Злодеям грозный бич свистит
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Дальше - шум. Слушая XX век - Алекс Росс», после закрытия браузера.