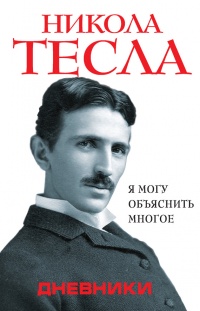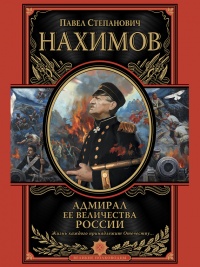Читать книгу "... Она же «Грейс» - Маргарет Этвуд"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вспоминая эту сцену, Саймон морщится. «Я слишком увлекся, — думает он. — Все это плод моего воображения и фантазии. Нельзя отвлекаться от наблюдений, нужно действовать осторожно. Ценность эксперимента подтверждается его результатами. Следует избегать излишней горячности и мелодраматизма».
За дверью слышится шарканье, затем глухой стук. Наверное, принесли завтрак. Он поворачивается к двери спиной и чувствует, как шея втягивается в воротник, словно голова черепахи и панцирь.
— Войдите! — восклицает он, и дверь распахивается.
— Ваша еда! — орет Дора. Грохнув подносом о стол, она выходит из комнаты, и дверь за ней с треском захлопывается. В голове Саймона непроизвольно возникает мимолетный образ Доры, подвешенной за лодыжки в витрине мясника, нашпигованной чесноком и покрытой хрустящей корочкой, будто зажаренный в меду окорок. «Ассоциация идей — поистине удивительная вещь, — думает он. — Достаточно понаблюдать за работой собственного ума. Например: Дора — свинья — окорок. Чтобы перейти от первого термина к третьему, необходим второй, но от первого ко второму и от второго к третьему переход прямой».
Он должен это записать; «Важен промежуточный термин». Возможно, у сумасшедших эти ассоциативные цепочки просто стирают грань между реальностью и простой фантазией, как это случается во время сомнамбулического транса, под воздействием сильного жара или некоторых лекарств? Но каков механизм данного явления? Ведь должен же быть какой-то механизм. Где следует искать разгадку — в нервной системе или в самом мозгу? Что и как нужно вначале повредить, чтобы вызвать душевную болезнь?
Его завтрак, должно быть, остыл, если только Дора еще раньше нарочно его не остудила. Саймон встает с кресла, распрямляет длинные ноги, потягивается и зевает, а затем подходит к другому столу, на котором стоит поднос. Вчерашнее яйцо было тугим, как резина, он сказал об этом хозяйке, изможденной миссис Хамфри, и, вероятно, та сделала Доре выговор, потому что сегодня яйцо и вовсе недоваренное: почти как студень с голубоватым отливом, отчего походит на глазное яблоко.
«Будь проклята эта баба, — думает Саймон. — Недовольная, тупая и мстительная. Ум ее недоразвит, однако она хитра, лжива и коварна. В угол ее не загонишь. Жирная свинья».
Гренок хрустит на зубах, как обломок сланца. «Дражайшая матушка, — мысленно сочиняет он письмо. — Погода здесь чудесная, снег почти весь сошел, в воздухе пахнет весной, солнце согревает своими лучами озеро, и уже мощные зеленые ростки…»
Ростки чего? Он никогда особо не разбирался в цветах.
Я сижу в комнате для шитья, наверху лестницы в доме жены коменданта. Сижу на обычном стуле за обычным столом, с обычным шитьем в корзине, только без ножниц. Они требуют, чтобы ножниц у меня под рукой не было, и если мне нужно отрезать нитку или подровнять шов, я должна обращаться к доктору Джордану, который вынимает их из жилетного кармана и снова кладет их туда же, когда я закончу. Он говорит, что вся эта катавасия ни к чему, — он считает меня совершенно неопасной и вполне вменяемой. Видимо, человек доверчивый. Впрочем, иногда я откусываю нитку зубами. Доктор Джордан сказал им, что нужно создать атмосферу расслабленности и спокойствия, отвечающую каким-то его целям, и поэтому он попросил сохранить мой привычный распорядок дня. Сплю я по-прежнему в отведенной мне камере, ношу ту же самую одежду и ем тот же завтрак в тишине, если, конечно, это можно назвать тишиной. Сорок женщин, большинство сидит здесь за обычное воровство, жуют хлеб широко раскрытыми ртами и громко хлебают чай, стараясь произвести хоть какой-то шум, а тем временем нам читают вслух поучительный отрывок из Библии.
Думать можно о чем угодно, а вот если засмеешься, лучше притвориться, что закашлялась или подавилась: лучше второе — тогда тебя ударят по спине, а если закашляешься, вызовут врача. Ломоть хлеба, кружка спитого чая и мясо на обед, только немного, потому что переедание жирной пищи возбуждает преступные органы мозга — так говорят врачи, а охранники и смотрители потом нам пересказывают. Но почему тогда их собственные преступные органы не возбуждаются, если они досыта едят мясо, курицу, яичницу с грудинкой и сыр? Поэтому они такие толстые. Мне кажется, они иногда забирают то, что причитается нам, но это ни капельки меня не удивляет, тут везде царит волчий закон: только мы овцы, а волки — они.
После завтрака меня, как обычно, отводят в дом коменданта двое смотрителей, которые любят пошутить между собой, пока начальство не слышит.
— Слышь, Грейс, — говорит один, — я смотрю, у тебя новый ухажер, доктор небось. Не знаю, сам он стал перед тобой на колени или же ты свои коленки перед ним задрала, но лучше ему держать ухо востро, а не то уложишь ты его на обе лопатки.
— Да уж, на лопатки, — говорит другой, — прямо в камере, без сапог и с пулей в сердце. — Они хохочут: думают, что это ужасно смешно.
Я пытаюсь представить, что сказала бы Мэри Уитни, и порой говорю это.
— Если вы действительно так обо мне думаете, то придержите свои грязные языки, — сказала я им. — А не то я вырву их темной ночью у вас изо рта вместе с корнем! Мне даже нож не понадобится — просто схвачу зубами и вырву! И не смейте прикасаться ко мне своими мерзкими лапами!
— Шуток не понимаешь? Я б на твоем месте только рад был, — говорит один. — Кроме нас, к тебе никто и не прикоснется всю оставшуюся жизнь. Тебя ж заперли здесь, как монашку. Признайся, тебе ведь страсть как хочется покувыркаться. Ты ведь путалась с тем коротышкой Джеймсом Макдермоттом, убийцей чертовым, пока ему не выпрямили его кривую шею.
— Брось задаваться, Грейс, — говорит другой. — Хватит корчить из себя саму невинность, будто у тебя и ног-то нет, словно ты чиста, как ангелочек! Можно подумать, ты никогда не леживала в кровати с мужиком, там, в льюистонской таверне, мы ведь слыхали об этом. Когда тебя сцапали, ты надевала корсет и чулки. Но я рад, что в тебе еще остался прежний дьявольский пыл, не выбили его из тебя покуда.
— Ох, люблю, когда в бабе есть задор, — говорит первый.
— Как в бутылке с джином, — подхватывает другой. — Тут и до греха недалеко, прости господи. Маленько растопки, чтоб огонь пуще горел.
— Хорошо, когда баба вдрызг пьяна, — говорит первый, — а еще лучше, если обопьется до беспамятства. Тогда ее и не слышно, ведь нет ничего хуже вопящей шлюхи.
Ты сильно шумела, Грейс? — спрашивает другой. — Визжала, стонала, извивалась под этим жалким трусишкой? — и смотрит на меня, что я отвечу. Иногда я говорю, что не потерплю таких разговоров, и тогда они от души смеются, но чаще я просто молчу.
Так мы и коротаем время, пока не доберемся до ворот тюрьмы.
— Кто идет? А, это вы, день добрый, Грейс! И два кавалера тут как тут, ходят за тобой, будто к фартуку привязанные. Подмигни да пальцем помани — они тут как тут, бегут вдоль по улице, крепко схватив тебя за руки.
В этом нет надобности, но им это нравится. Они прижимаются ко мне все теснее, пока совсем не стиснут. И мы шлепаем по грязи, через лужи, вдоль куч конского навоза, мимо цветущих деревьев в огороженных садах: листочки и цветы похожи на свисающих желто-зеленых гусениц. Лают собаки, мимо проезжают экипажи и кареты, разбрызгивая по дороге грязь, а люди пялятся на нас — ведь ясно, откуда мы идем, по моей одежке видно. Наконец мы поднимаемся по длинной аллее с цветочными бордюрами к служебному входу.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «... Она же «Грейс» - Маргарет Этвуд», после закрытия браузера.