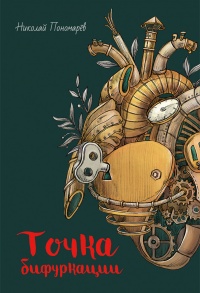Читать книгу "Третий прыжок кенгуру (сборник) - Вл. Николаев"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Хочешь попробовать еще одну рукопись? – оживился Никодим Сергеевич.
– Это м-мои сти-ихи, – смущенно пролепетал, слегка заикаясь, Чайников.
– Давай и их! – бодро предложил Кузин.
– Да, но…
– Боишься?
– Откровенно говоря, страшновато.
– Стихи-то считаешь как, приличные?
– Вроде бы удались.
– Так давай.
– А вдруг…
– Ничего, не умрешь… А потом, лучше знать правду, чем заблуждаться на собственный счет.
– А, была не была, – с отчаянной решимостью произнес Чайников и сам отправил рукопись в машину.
Пока аппарат переваривал, урча, текст, поэт ощутил столь сильное сердцебиение, что едва не лишился чувств и сто раз успел пожалеть о том, что решился на такое испытание, которое сейчас представлялось ему хуже казни. В отчаянии он молил, кого и сам не знал, о том, чтобы только не вспыхнула позорная красная шкала, чтобы не видеть этого смертельно режущего цвета. В страхе Чайников даже крепко зажмурился.
Когда машина перестала урчать, он, не открывая глаз, дрожащим голосом спросил:
– Ну, что там?
– Дело, – твердо сказал Никодим Сергеевич и обнял дрожащего друга. – Дело, понимаешь. Дело. Перестань трястись!
И все равно, прошла еще минута, пока Чайникову удалось унять колотившее его волнение и он наконец открыл глаза.
Волнение сменилось жарким ощущением счастья, ибо он твердо знал теперь, что спасен. И еще безмерно счастлив был от того, что снова обрел уверенность – и после длительного творческого простоя, когда стихи почти не писались и его никто не хотел печатать, он сохранил все же способность творить.
Большего счастья Чайникову в этот день и не нужно было.
в которой судьба Аскольда Чайникова заметно меняется к лучшему
Кавалергардов является в редакцию по собственному усмотрению и желанию, требуя в то же время от сотрудников строжайшей дисциплины. Он был твердо уверен, что его дело давать направление и следить за тем, как выдерживается это направление, а работать обязан аппарат. Ему приходится нести общую ответственность, которая и оплачивается немалыми привилегиями.
В самом этом факте ничего предосудительного нет, и, упоминая об этом, автор не пытается бросить тень на кого-нибудь из главных редакторов и на Иллариона Варсанофьевича, в частности. Отнюдь. Ведь надо принять во внимание и то, что Кавалергардов был не только главным редактором толстого литературно-художественного журнала, что само по себе обременительно, правда, от этого тяжкого бремени почему-то никто не спешит избавиться, но одновременно и секретарем Союза, членом редакционных советов нескольких издательств, а уж что касается всяких чисто общественных выборных и представительных органов, то я не берусь их и перечислять, ибо это настолько утяжелило бы наше повествование, что его вряд ли можно было бы, по крайней мере на этой странице, отличить от ведомственного справочника. Сообщу лишь, что Кавалергардов вращался во всевозможных сферах, ухитрялся жить одновременно в городе и на даче, в родной стране и за границей. Он каким-то образом приспосабливался жить так, что никто – ни жена, ни его преданная личная секретарша Лилечка, ни даже шоферы, постоянно обслуживавшие Кавалергардова, – положительно не могли сказать, где он в данную минуту находится и где объявится через час.
Словом, крутится Илларион Варсанофьевич, как говорится, дай бог, как белка… впрочем, нет, не как белка. Белке такие скорости и такие средства, какие помогали крутиться Кавалергардову, никогда не снились и не могли сниться. Носатого, большеголового, неестественно длинного и тощего Иллариона, – родись он лет на тридцать попозже, непременно сделался бы добычей баскетбольных тренеров, – сразу узнавали, появись он на людном собрании, в театре или, скажем, на стадионе, и уж тем более на каком-либо празднестве. Не только близким, а и тем, кто лишь время от времени наблюдал Иллариона Варсанофьевича со среднего и даже, так сказать, отдаленного расстояния, были известны его манеры, его привычки, его не всем нравившаяся, но всеми тем не менее принимавшаяся особенность разговаривать вяловато и устало и отдавать этим вяловато-усталым тоном самые важные распоряжения. Шутил Кавалергардов тяжеловато, оживлялся лишь в самом узком кругу и в очень редких случаях. Делал он это в целях самосохранения после того, как один из врачей посоветовал ему беречь эмоциональную энергию.
В не столь давние годы эту энергию Илларион Варсанофьевич Кавалергардов расходовал на творчество – он слыл плодовитым кинодраматургом. Каждый год на экраны выходили фильмы, поставленные по его сценарию, а в иные годы и два. Случалось, что сценарий превращался в пьесу и продолжал победное шествие на подмостках театров. Но в последние годы то ли Илларион Варсанофьевич исписался, то ли уж слишком закрутила его жизнь, фильмы по его сценариям ставились все реже.
Еще не столь давно услужливые критики превозносили Кавалергардова чуть ли не до небес, даже называли королем экрана и телевизора. Но это было и ушло. С некоторых пор слава его начала заметно тускнеть, имя стало забываться не одними зрителями, а и кинорежиссерами и критиками, хотя у Иллариона Варсанофьевича еще по-прежнему среди них оставалась пропасть друзей, охотно садившихся за его гостеприимный стол на городской квартире и на даче.
Теперь он добивался преимущественно одного – чтобы как можно чаще его имя мелькало на страницах печати, чтобы в обзорах не пропускали, интервью почаще брали, о былых заслугах читателям напоминали, в перечнях указывали. Ко всяким упоминаниям он был ревнив. Не дай бог, если его фамилию в информационном сообщении о каком-то заседании вычеркивали при сокращении перечня тех, кто присутствовал или выступал. Редактору такого издания Кавалергардов устраивал шумный скандал, требовал непременного наказания сотрудника, готовившего материал. Все это делалось для того, чтобы в следующий раз неповадно было вычеркивать его фамилию даже при самой крайней необходимости сократить материал. Пусть кого угодно другого сокращают, но только не Кавалергардова! Такого принципа он считал необходимым держаться неукоснительно. Дай волю, сегодня сократят не задумываясь, а завтра и хулить начнут без зазрения совести, а там и забвению предадут, забудут, что такой и на свете существует. А забвения Илларион Варсанофьевич боялся пуще всего. Можно сказать, до жути смертельной.
На творчество теперь, по совести говоря, уходило не так много эмоциональной энергии, о сохранении которой Кавалергардов тщательно заботился. Она ему при разнообразии и широте деятельности ой как еще была нужна. При невероятно уплотненном бюджете времени Илларион Варсанофьевич ежедневно вырывал несколько драгоценных минут для того, чтобы внимательнейшим образом разглядеть свое лицо в зеркале. Особенно старательно он изучал цвет и блеск глаз, окраску белков. Мутноватые белки действовали на него удручающе. Как ни покажется странным, неестественная худоба не огорчала Кавалергардова, она нисколько не тревожила его, как бывало некогда, он находил в этом даже некоторое достоинство, соответствие современным требованиям медицины. Что касается внешнего вида, то и тут беспокоиться было нечего, – искусство постоянного портного позволяло успешно маскировать худобу и, как казалось Иллариону Варсанофьевичу, придавало его фигуре элегантную стройность. А вот мутноватые белки удручали.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Третий прыжок кенгуру (сборник) - Вл. Николаев», после закрытия браузера.