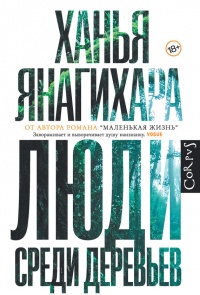Читать книгу "Сцены из провинциальной жизни - Джон Кутзее"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Интересно, не могли бы вы описать его человеческие качества? Я ценю то, что вы сказали о его политических взглядах, но, может, есть какие-нибудь истории более личного характера, которыми вы готовы поделиться, истории, которые могли бы лучше пролить свет на его характер?
Вы имеете в виду истории, которые выставили бы его в более выгодном, более привлекательном свете — например, что-нибудь о доброте по отношению к животным, к животным и женщинам? Нет, подобные истории я приберегу для собственных мемуаров.
(Смех.)
Хорошо, я расскажу вам одну историю. Возможно, она не кажется такой уж личной, скорее политической, но вы должны помнить, что в те дни политика пронизывала все.
Один журналист из «Либерасьон», французской газеты, приехал по заданию в Южную Африку и спросил, не могу ли я устроить ему интервью с Джоном. Я пошла к Джону и уговорила его согласиться: сказала, что «Либерасьон» хорошая газета, что французские журналисты не такие, как южноафриканские, они никогда не приходят на интервью неподготовленные.
Мы провели это интервью в моем кабинете в кампусе. Я подумала, что смогу помочь, если возникнут языковые проблемы: Джон неважно говорил по-французски.
Так вот, скоро стало ясно, что журналиста интересует не сам Джон, а то, что Джон может рассказать ему о Брейтене Брейтенбахе, у которого в то время были проблемы с южноафриканскими властями. Во Франции с живым интересом относились к Брейтенбаху — он был романтической фигурой, много лет жил во Франции, у него были связи в мире французских интеллектуалов.
Джон ответил, что ничем не может помочь: он читал Брейтенбаха, вот и все, но не знаком с ним лично, никогда не встречался с ним. Это было правдой.
Но журналист, который привык к литературной жизни Франции, где в литературном мире все хорошо знают друг друга, не поверил. С какой стати одному писателю отказываться говорить о другом писателе из того же маленького племени, племени африканеров, если только у них нет личной вражды или каких-то политических разногласий?
И он нажимал на Джона, а Джон все пытался объяснить, как трудно иностранцу оценить достижения Брейтенбаха как поэта, поскольку его поэзия так глубоко уходит корнями в volksmond, язык народа.
— Вы имеете в виду его стихотворения на диалекте? — спросил журналист. И так как Джон не понял, весьма пренебрежительно добавил: — Конечно, вы согласитесь, что нельзя создать великую поэзию на диалекте.
Это замечание взбесило Джона. Но поскольку в гневе он не кричал и не устраивал сцен, а становился холодным и замыкался в молчании, человек из «Либерасьон» ничего не понял. Он понятия не имел, какую бурю вызвал.
После, когда Джон ушел, я попыталась объяснить, что африканеры очень эмоционально реагируют, когда оскорбляют их язык, что сам Брейтенбах, вероятно, отреагировал бы аналогичным образом. Но журналист лишь пожал плечами. Нет смысла, сказал он, писать на диалекте, имея к своим услугам всемирный язык (на самом деле он сказал не «диалект», а «невразумительный диалект», и не «всемирный язык», а «настоящий язык», une propre langue). В этот момент до меня начало доходить, что он включил Брейтенбаха и Джона в одну категорию — писателей, пишущих на диалекте.
А Джон, разумеется, никогда не писал на африкаанс, он писал на английском, очень хорошем английском, он всю жизнь писал по-английски. Но, несмотря на это, он резко отреагировал на то, что счел оскорблением достоинства африкаанс.
Он делал переводы с африкаанс, верно? Я имею в виду, переводил авторов, которые писали на африкаанс.
Да. Он хорошо знал африкаанс, хотя примерно так же, как французский, то есть лучше знал письменный, чем разговорный. Конечно, я недостаточно компетентна, чтобы судить о его африкаанс, но такое у меня сложилось впечатление.
Итак, перед нами человек, который далеко не блестяще говорил на языке, который стоял в стороне от национальной религии или по крайней мере государственной религии, чьи взгляды были космополитическими, чьи политические суждения были — как бы это сказать? — диссидентскими, но который был готов заявить о своей принадлежности к африканерам. Как вы думаете, почему?
Мне кажется, под взглядом истории он чувствовал, что никоим образом не может отделять себя от африканеров, сохраняя при этом самоуважение, даже если это означало быть связанным со всем, за что ответственны африканеры в политическом смысле.
Не было ли чего-то, что побуждало его отнести себя к африканерам на более личном уровне?
Возможно, не могу сказать. Я никогда не встречалась с его семьей. Может быть, они дали бы мне ключ. Но Джон по природе был очень осторожен, совсем как черепаха. Когда он чувствовал опасность, то прятался в свой панцирь. Его так часто отталкивали и унижали африканеры — достаточно прочесть книгу воспоминаний о его детстве, чтобы это увидеть. Он не собирался рисковать, чтобы его снова оттолкнули.
Выходит, он предпочитал оставаться аутсайдером.
Думаю, он лучше всего себя чувствовал в роли аутсайдера. Он был одиночкой. Он не был игроком в команде.
Вы говорите, он так и не познакомил вас со своей семьей. Вы не находите это странным?
Нет, вовсе нет. К тому времени, как я с ним познакомилась, его мать умерла, отец был нездоров, брат уехал из страны, Джон был в натянутых отношениях с родственниками. Что касается меня, то я была замужем, поэтому наши отношения приходилось скрывать.
Но мы с ним, естественно, беседовали о наших семьях, о наших корнях. Я бы сказала, его семью отличало то, что они были африканерами в отношении культуры, но не африканерами в политическом смысле. Что я хочу этим сказать? Вспомните на минуту Европу девятнадцатого века. По всему континенту вы видите этнические или культурные общности, переходящие в политические. Этот процесс начинается в Греции и быстро распространяется на Балканах и в Центральной Европе. Вскоре эта волна докатывается до колоний. В Капской колонии креолы, говорившие на нидерландском, начали ощущать себя отдельной нацией, нацией африканеров, и агитировать за национальную независимость.
Но так или иначе эта волна романтического националистического энтузиазма обошла стороной семью Джона. Или же они сознательно решили не присоединяться к ней.
Они держались в стороне из-за политики, связанной с националистическим энтузиазмом — я хочу сказать, антиимпериалистической, антианглийской политики?
Да. Сначала их встревожила подогреваемая враждебность ко всему английскому, мистика Blut und Boden[50], а потом оттолкнул идеологический багаж, который националисты переняли у радикальных правых в Европе (например, научно обоснованный расизм), и сопутствующая политика: идеологизация культуры, милитаризация молодежи, государственная религия и так далее.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Сцены из провинциальной жизни - Джон Кутзее», после закрытия браузера.