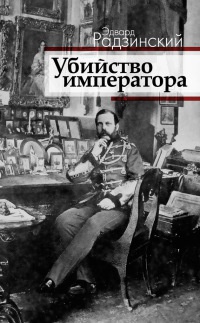Читать книгу "Анатомия террора - Леонид Ляшенко"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Я не шучу, – строго ответил подполковник.
Ландезен был сбит с толку, губы у него сложились трубочкой. Недоумевая, он мямлил «да-да» в ответ на условия следующей встречи – здесь же, через неделю, в предобеденный час.
Тихомиров часто маялся бессоницей. А если спал, то душно, нехорошо, ему снились сны. По соннику он не гадал, но, случалось – с кем не случается, – мысленно вопрошал: что сей сон значит?
Однажды приснился старичок, мертвенький, во гробе. Тихомиров стоял у гроба и смотрел на старичка, близко, кровно знакомого. И вдруг сознал, что это ведь сын его Сашенька. Тихомиров застонал и заплакал, вместе с тем отчетливо, как при бодрствовании, понимая, что в глубокую свою старость Сашенька погрузится много-много годов спустя, где-нибудь там, за перевалом грядущего двадцатого века, а тогда уж от него, Тихомирова, и останков не останется.
Проснулся он позже обычного, позже благовеста, с той угнетенностью, которая утрами свойственна неврастеникам. Однако в нынешней его угнетенности не было привычной смутной тревоги, а была неотвязность ночного кошмара.
Сто раз Тихомиров слышал, что первый шаг младенца есть и первый шаг к смерти. Слышал и забывал, как забываешь тьмы привычных истин. Рождается существо, существо существует, перестает существовать. Ничего алогичного. И о Сашуркиной смерти мысль ему тоже приходила в голову – сыночек был хилый, слабенький, часто хворал. И тут тоже ничего странного не было – обычные родительские страхи.
Свою смерть Тихомиров оплакал давно, мальчиком. Как многим, и ему в детстве случалось, проснувшись среди ночи, горько и недоуменно думать о том, что живет он, чтобы потом умереть, и ему было ужасно жаль самого себя. С возрастом, тоже как и многие, он не то чтобы примирился с неизбежным, а просто не думал о неизбежном.
Но сон давешней ночи больно поразил Тихомирова. Мысль о том, что и его Сашенька родился и живет для того, чтобы когда-нибудь умереть, показалась Льву Александровичу чудовищной, противоестественной. Поражало и мучило именно то, что как раз и не должно было поражать и мучить. Он взывал к здравому смыслу, ночное видение не сгинуло, стояло перед глазами.
А малыш по обыкновению тихо возился с игрушками. Играл он то рядом с отцом, то за стеною, рядом с матерью. Играл, возился с солдатиками и лошадкой, а Тихомирову не давалось длинное письмо с очередной просьбой о какой-нибудь работенке в английской периодике.
Тихомиров поглядывал на Сашеньку, словно хотел подглядеть что-то... Сморщенный старичок, положенный в гроб, какие-то люди несут гроб, опускают в могилу... Лишь позже, уже в сумерках, мучительная нелепость выболела и утихла. И тогда рухнула настоящая беда.
У Сашеньки резко подскочила температура. Его уложили, укутали. Катя, склонясь над ним, спросила, как всегда спрашивала:
– Тошнит, миленький?
– Нет, – прошептал он, закрывая глаза, – нисколечко...
Тут его начало рвать. Без позывов, без тошноты – обильная бурная рвота. Едва кончилась, мальчик закричал: «Тя-я-я-янет! Затылок! О-о-о-о!» Голова продавила подушку. Упиралась, как в каменную плиту. Мальчик кричал и двигал руками не беспокойно, не мятущимися, а одинаковыми, повторяющимися движениями.
Тихомиров бросился за доктором. Доктор жил рядом и всегда лечил Сашеньку. Немолодой, с лицом сердитым, в сюртуке, обсыпанном табаком и перхотью, доктор тешил маленького пациента мелодичным звоном часов брегет. Обращаться к нему Тихомиров конфузился, потому что платил неаккуратно, и, потупившись, выслушивал замечания об известном русском мотовстве и неумении жить по карману. Но сейчас Лев Александрович, забыв шляпу, бежал за доктором, не думая ни о гонораре, ни о ворчливо-философических назиданиях.
Осмотрев Сашу, доктор, упорно избегая вопрошающего взгляда Тихомирова и его жены, достал массивный золотой брегет. На мелодичный перезвон часов Саша отозвался мучительной гримаской: «Не надо... Не надо...» Доктор поднялся. Наихудшие подозрения подтвердились, он больше не сомневался. Приказал: «Мушки, компрессы, лед. Никакого шума. Завесьте окна».
– Что с ним? – умоляюще спросила Катя.
– Особый вид простуды, опасный вид, надо полагать, – отвечал доктор, будто сердясь на эту женщину и осторожно оправляя Сашино одеяльце.
Тихомиров пошел за ним в прихожую. Подал пальто. Доктор медлил. Оглянувшись на комнаты, понизив голос, сурово произнес:
– Менингит. Из десятерых умирают восемь.
Тихомиров, словно не расслышав диагноза, нашаривал в кармане деньги. Доктор сделал гневный жест.
– Вы понимаете? Из десятерых – восемь!
Тихомиров понял и, поняв, переспросил, будто и не понял:
– Как это: из десятерых – восемь?
– Ну семь, может быть, семь, – сердито повторил доктор. Надев пальто, он положил руку на плечо Тихомирова. – Будьте готовы ко всему. – Помолчав, прибавил: – Даже если он выздоровеет – последствия обычно тяжелейшие: водянка, глухота, слепота... – Он вздохнул. – Мужайтесь, мосье. Я приду утром.
Теперь их было четверо в этой плохонькой квартирке под самой крышей. Трое, связанные судьбой, кровью. И та, четвертая, востролицая, незримая, неслышная, шаставшая сквозь двери и стены. Ее присутствие ощущалось кожей как прикосновение. И ее дыхание тоже ощущалось, смрадное и вместе легкое.
Саша умирал. Исчезали дни, ночи, благовестный колокол, апрель. Прежде привычный, почти неразличимый рокот города отдавался в ушах больного вулканическим грохотом, взрывами, пальбой, обвалом. Тихомиров с Катей едва удерживались, чтобы не ринуться вниз по крутой лестнице, не закричать на всю улицу, на весь Париж: «Тише! Ради всего святого – тише!»
Надо было менять эти проклятые мушки. Катя, заткнув уши, рыдала. Тихомиров то стискивал зубы, то у постели топал ногами: «Надо! Терпи! Надо!»
Потом микстуры. Катя выглядывала из-за дверей. Он бросал на жену ненавидящий взгляд: «Почему я один? Почему все я да я?!» И, склонясь над Сашенькой, то ласково уговаривал принять лекарство, то злобно, кляня себя извергом, шипел: «Глотай! Глотай, тебе говорят! Ну же!»
Противоречивые желания владели им: «Биться! До конца, до последней возможности отстаивать Сашуру»; «Зачем я его мучу? Зачем эта пытка? К чему? Он обречен, а я его мучу?!»
Но вот будто отпускало. Саша дышал ровнее, не стонал, пытался приподнять голову, открывал глаза. Тихомиров счастливо переглядывался с Катей. И вдруг, как бы стыдясь, оба ощущали необычайную, прежде не испытанную любовь не только к их дорогому Шуре, но и друг к другу.
Однако даже в такие короткие минуты Тихомиров не думал о выздоровлении. «Умрет. Непременно умрет». Правда, в тишине, при Сашином молчании, мысль эта уже не была пыточной и сменялась желанием хоть немножко, хоть чуточку, хоть самую малость скрасить последние Сашенькины денечки.
Тихомиров ходил по лавкам, выбирал игрушки. И нелепым, оскорбительным, но по-новому странно приманчивым казался ему летний Париж: цветы, шум, беспечность, экипажи, еще непривычные велосипеды «Кенгуру» с бегучей цепной передачей.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Анатомия террора - Леонид Ляшенко», после закрытия браузера.