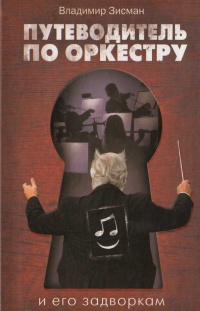Читать книгу "Джордж Оруэлл. Неприступная душа - Вячеслав Недошивин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Так понимали и долго еще, увы, будут понимать роман Оруэлла только навечно заслепленные – незрячие в литературе. И не важно где: в Лондоне или Нью-Йорке, в Париже – или в далекой и загадочной Москве.
«Я зашел слишком далеко…»
1.
В холодной, но душной комнате, посреди окурков и недопитых чашек чая, за шатким столом, заваленным грудами бумаг, сидит человек в побитом молью халате и старается поудобнее поставить пишущую машинку.
Сейчас половина двенадцатого, и по плану ему следовало бы приняться за работу ровно два часа назад, но, даже если бы он всерьез попытался взяться за нее, ничего бы не получилось – ему мешали бы телефонные звонки, плач ребенка, стук отбойного молотка на мостовой перед окном, тяжелые шаги кредиторов вверх-вниз по лестнице. Только что второй раз пришел почтальон и вручил ему пачку рекламных проспектов и строгое напоминание налоговой службы, напечатанное красными буквами.
Надо ли говорить, что этот бедняга – писатель? Он может быть романистом или поэтом, все литераторы похожи… но, допустим, наш герой – критик-рецензент…
Все три абзаца, приведенные мной выше, я нарочно не закавычил. Так начинается заметка Оруэлла «Признание рецензента» – одна из первых после войны. Он пишет, конечно, что все литераторы похожи друг на друга, но здесь бедняга Оруэлл, несомненно, изобразил себя в 1945-м. И это ему четыре дня назад редактор, с запиской «обчитать по возможности всё сразу», прислал на рецензию сразу пять книг (одну в 680 страниц). Хотя даже запах типографский давно действовал на него так, «словно ему предстояло съесть застывший пудинг из рисовой муки, приправленный касторкой». Здесь всё про него: и плач ребенка (сыну Ричарду был год), и окурки с недопитым чаем, и, подозреваю даже, халат, «побитый молью»… И – итог: несмотря ни на что, точка в написанном тексте встанет «ровно за три минуты до того, как надо бежать в редакцию…».
В 1945–1946 году, после «Скотного двора», он опять работал как бешеный. Десятки статей, среди которых – такие рубежные для него, как «Подавление литературы», «Заметки о национализме», «Политика против литературы», «Политика и английский язык», – все они были отстуканы на машинке именно в этой комнате на Канонбери-сквер, где на стене висела фотография покойной жены, а в шкафу висели ее платья, и где в соседней комнате стояла кроватка сына, за которым наблюдала сестра Оруэлла, Эврил.
Сына после возвращения из Европы он не хотел отдавать даже в ясли. С начала 1946 года помогать ему по дому стала няня-воспитательница, 28-летняя Сьюзан Уотсон, жена математика из Кембриджа. Потом, в 1989-м, она вспомнит, что «хозяин» относился к ней как брат, что человеком был «невероятного трудолюбия», что за машинку садился в восемь и работал иногда до пятичасового чая. Она, хотя это и не входило в ее обязанности, пыталась создать вокруг домашний покой. И когда Оруэлл, к примеру, «застенчиво улыбаясь», рассказал ей, что слуга в Бирме будил его по утрам, щекоча ему ступни, приучила к этому и Ричарда. Но ничто, подчеркнет, не могло оторвать его от работы: он приспособился стучать на машинке даже в кровати. «Я привык, – будет вспоминать Оруэлл про ту зиму, – на целый день забираться в благословенную постель и писать статьи в ее великолепной теплоте…»
Торопился, спешил жить. В одном из писем, помните, обмолвится: «Я зашел слишком далеко…» Но – зашел ли? Не забежал? Ведь последние годы Оруэлла можно вообще обозначить одним словом: забег. Это было соревнование со временем и пространством, со своим телом, по частям выходившим из строя, со слабеющей волей, с умом, отказывающимся верить себе же. Две мысли подхлестывали и гнали его вперед: стремление не оказаться бесполезным – и чувство сострадания и личной вины за всё.
«Да, у него были недостатки, – напишет об Оруэлле в 1961 году видный британский анархист Николас Уолтер, с которым Оруэлл сойдется после войны. – Он не всегда проверял факты и часто бывал неаккуратен и даже несправедлив… Но он был не просто недовольным человеком, а радикальным примером английского диссидента из среднего класса, который восстал против собственной социальной группы… Оруэлл был святошей, презиравшим святош, патриотом, который презирал патриотов, социалистом, который презирал других социалистов, интеллектуалом, презиравшим интеллектуалов… Он был человеком, полным логических противоречий и эмоциональных метаний, но это делало его лучше, а не хуже… Он был еретиком, который должен был предать собственную ересь…»
Заканчивая очерк, Уолтер напишет: «Можно собрать все имеющиеся факты о нем, прочитать все исследования, но он все равно останется загадкой… хотя, без сомнения, он был одной из важнейших личностей современности, одним из немногих настоящих героев и истинных душ, коих видел наш век… Тип героя Томаса Карлейля: “Он, каков бы он ни был, есть душа всего… Никто не спрашивает, откуда он пришел, какую цель имеет в виду, какими путями идет… Он есть порождение случая… И он же, как духовный светоч, ведет этот мир по правильному или ложному пути”…»
«Светоч», «герой», «истинная душа», «святоша», «патриот» и одновременно «еретик» – не слишком ли сахарно? Могу представить, как брезгливо перелистнул бы эти страницы сам Оруэлл. А если окунуться в 1946-й, принесший ему мировую славу, то, как ни странно, этот «герой» и «светоч» чувствовал себя невероятно, бесконечно одиноким. Именно в 1946-м он предложит сразу трем женщинам выйти за него замуж, и все три откажутся. И именно тогда он почти рассорится с двумя близкими друзьями: с Жоржем Коппом, почти родственником, и с Артуром Кёстлером, тоже еретиком.
С выходом «Скотного двора» в августе 1945 года многое изменилось и с Оруэллом в мире, и в нем самом. Странную, возможно, скажу вещь, но он, мне кажется, даже после всесветного успеха сказки все равно слегка комплексовал: писатель ли он?
Упреки в «невеличии» его высказывались и после смерти Оруэлла, а к столетию писателя, с выходом самых «свежих» биографий его, претензии стали почти угрожающими. Это уже не «оторванная пуговица», которую ему не могли простить. Некто Пирс Брентон в статье «Святой или просто благопристойный» (7 июля 2003 года) саркастически написал, что впору чуть ли не заводить «Дело против…», ибо детство его, оказывается, было «больным», репортером он был «ненадежным», романы оказались «подражательны», а сотрудничество с властями перед смертью говорит о том, что он был еще и «доносчиком». И в доказательство приводил мнения о писателе: «Дни в Бирме» – это, дескать, Моэм; «Дочь священника» – это ранний Джойс; «Да здравствует фикус!» – Гиссинг, «Глотнуть воздуха» – в чем-то Пруст, а «Скотный двор» – «просто Свифт, разбавленный водой…».
Ссылаясь на книгу Мэри Маккарти «Надпись на стене», которая была опубликована еще в 1969-м, писали, что он, «ненавидя интеллигенцию… и “богатых свиней”, как звал миллионеров, тем не менее больше всего злился во время войны “на медленный ремонт в его квартире”», что «мгновенно ловил запах роскоши, материальной или интеллектуальной», что глумился над Джойсом за то, что «тот был “над схваткой”», над Ганди «за его игры “с прялкой”», но на деле всё, что он имел против интеллигенции и богатых, заключалось в том, что их «правда жизни» была, что называется, «в моде»…
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Джордж Оруэлл. Неприступная душа - Вячеслав Недошивин», после закрытия браузера.