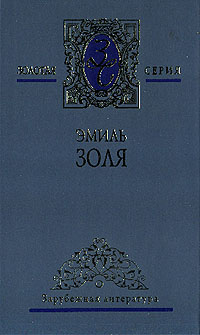Читать книгу "Во сне ты горько плакал - Юрий Казаков"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но этот напев – его даже трудно определить, радостный он или печальный. Он дик и невнятен, он первобытен и прост, как эти камни и сосны, он однотонен, но он и неодинаков – и сколько там в этой «Калевале» проходит героев, злых и добрых, сколько событий, столько же интонаций и в мелодии. Одна и та же, она звучит то мягко, то грозно, то зловеще, то быстро, то медленно. Как будто то несешься в лодке между скал по гремящим порогам с водяными туманами и радугами, то остановился в озере и загляделся в его зелено-желтую глубину.
Ситя руотайста ромуа Каландуйста кантелейта…
Пролетели утки, плеснула рыба, кулик сел на кромку берега и быстро побежал от нас. Как это там в «Калевале»? Все поднялись слушать музыку ночи – из лесу вышли лесные жители – ах, они скрывались там! – из воды с шумом и плеском выпорхнула хозяйка воды, вышла через березовое дупло на ольховую листву. А вон и утки гребут на своих лапках, и птицы слетелись с шорохом, перепархивают ближе и ближе. Играет Вяйнямейнен на кантеле, на жемчужном кантеле, сотворенном из костей рыбы. Для кого? Для озер, для камней и неба, опрокинувшегося в водах, для тихого своего народа в белых одеждах, сидящего по всем каменным уступам всей каменной страны, как чайки ночью?
Поет Перттунен! А почему бы ей и не петь, если пели когда-то дети лопарей, поев глаза плотвичек и запив водой из ламбушки – маленького озерца? Почему бы не петь старой Перттунен, если ест она хлеб без примесей, жует чистый хлеб и сидит на берегу тихого Ала-ярви, возле смолистого огня?
Потом поет Марья Михеева – несколько иначе, потверже, повыше, и сперва вроде бы с усмешкой, а потом – серьезно, истово, и тоже затуманивается, тоже смотрит вдаль, а видит одного Вяйнямейнена. Поют старухи, раскачиваются, сменяют одна другую, а уж глаза у них подозрительно блестят, уж вытирают они их концами платков. Ветер у них выдул слезы, что ли? Или дым попал? Но нет ветра, и дыма почти нет – одни угли, одна тишина, одна «Калевала», выпеваемая старыми голосами, журчит, вздымается и опадает. Ортье ворочается, жмурится, кряхтит от удовольствия. Ему хорошо, завидую я ему – он все понимает, он как бы пробует на вкус все эти прекрасные слова, и сладки они ему!
Назад мы идем пешком по каменистой гряде. И когда поднимаемся, когда начинает овевать нас теплый нежный ветер, когда кругом видна, кажется, вся страна с синими озерами, с нагромождениями камней и маленькими редкими деревеньками, – я думаю: придет время, и ничего этого не будет, не станет дикости, пустынности, на берегах озер возникнут стеклянные дома – тут ведь особенно любят свет! – и побегут шелковистые розовые, и желтые, и голубые дороги, и среди лесов будут краснеть острые черепичные крыши ферм, отелей и городов – тогда забудется многое, забудется бедность, приниженность избушек, бездорожье, одно не забудется – не забудется «Калевала» и великий дух Вяйнямейнена, осеняющий эту прекрасную страну, и имена сказителей, несших этот дух сквозь столетия.
…И вытянул мой гениальный друг свою гениальную, длинную руку, и бережно, нежно, за горлышко, поэтически взял бутылку шампанского и, обдирая серебристую шкурку с пробки, оглядывая нас всех круглыми гениальными глазами из-под челки, стал говорить, стал приборматывать, ворковать:
– Ну… ну… Ребята, ребята… Напоследок, а? А? А? Шампанского, а? Володя… Але… Алеша, а? Хорошо тебе, Юра, а?
И двинули мы стульями, сели теснее, по-братски, и откашлялись, и торопливо закурили, а пробка между тем хлопнула в потолок, дымок пополз из горлышка, и поплыла, прореяла над столом длинная рука с бутылкой, и бокалы наши и сердца наполнились…
«Скоро отход, отход, отход!» – застучало мое сердце под звяк ножей и тарелок, среди этого теплого, низкого, морского ресторанного шума, в который пенье рюмок, их чистые голоса вплетались, как корабельные склянки, как флейта-пикколо в тремолирующий оркестр.
«Отход, отход, дожил, счастливый день, мой день!» – звучало мне во всех голосах и лицах моих друзей за этим длинным столом, в нашем закутке, в углу, скрытом от всего зала, в нашем ресторане, в нашем Архангельске, с бесценным дядей Васей внизу, у входа, с бесценными официантками, которые тебя уже знают, узнают в частые твои приезды за все эти годы, улыбаются, спрашивают: «Надолго к нам? А-а…», и оркестр игра-играет, и трубачи трубя-трубят, белая ночь за окном, и наша шхуна, наша «Моряна», которая вот уже пятнадцатый раз пойдет надолго во льды, – эта шхуна где-то стоит, неизвестно где – на фактории, у Холодильника ли, на рейде ли… Но я спокоен – она не уйдет без нас, – потому что рядом со мной, вот я его сейчас по плечу хлопну, рядом со мной капитан Саша, а напротив – Илья Николаевич, стармех, потом Алеша, старший помощник, чиф, все начальство с нами, и Володя-моторист, рыжий, розовый лицом, и женщины веселые сидят, глядят на нас как на героев, как на полярных волков, и вездесущий Глеб Глебыч Бострем с нами, а его-то знает пол-Архангельска, а уж он-то знает весь Архангельск! И какие-то моряки, пилоты, штурманы и бог знает кто еще – все подходят поздороваться с ним, потом узнают наших моряков-зверобоев, и – сразу восторг: «Ого! У-у! О-о! А я гляжу – кто это? Здоров! Давно пришел? Когда уходишь?»
Все откуда-то пришли или уходят в бесконечность моря, и я счастлив без оглядки, потому что и мы тут, вот тут, в этом ресторане, – как птицы, мы только присели, а шхуна уже ждет, как судьба, вот мы сейчас встанем и тоже уйдем, уйдем…
И звучат в нас и вне нас гул, бормотания, дружба, любовь, и музыка ликует, уравновешивает своей стройностью хаос – «Хотят ли русские войны?» – «Нет, нет, русские хотят танцевать перед тем, как уйти в море!» – и все танцуют, одни мы сидим, последние минуты досиживаем, последние минуты здесь, на берегу, а там – два месяца, целый июль и целый август, все будет океан, льды, тундра, белуха, ее кровь и немой вопль, а еще работа, работа, нет, мы не танцуем, сквозь гул, сквозь музыку, сквозь оклики, сквозь розовую ночь, брезжущую из-за наших спин, из-за большого окна, мы все говорим, говорим в эти последние минуты, будто прорываемся куда-то.
– Шампанского, а? Ребята, а? Шампанского, Юра? Давайте, давайте, давайте… Ночи в Архангельске – сплошное «быть может»! А, Юра? То ли в Архангельске, то ли в Марселе… (Женя, Женя!) бродят… новехонькие штурмана… А?
– Ну, знаю я, знаю, тут Тыко Вылка жил, приезжал, жил тут, вот в этой гостинице… Знаю, ненец Вылка, художник! Президент Новой Земли!
– А ты как думал? Тут все жили!
– Еще по одной, а?
– Все тут жили – и Отто Юльевич… Ни одна, понимаешь ты, полярная экспедиция не миновала!
– Ты, Юра, едри ее мать, ко мне домой приезжай. В гости. Прямо ко мне, понял? Специально на охоту. У меня лодкамоторка, мы с тобой, Юра…
А я вдруг как-то отдалился, вспомнил о другом поэте, не о том, который вот тут, рядом со мной, – о другом. Мысленно отыскал я его во Вселенной, не знаю где – в Сигулде, в Париже ли, но он послушно явился, и я увидел, с какой завистью смотрит он на меня.
Ау, говорю я ему, в дорогу! Давай поедем с тобой на охоту. Дай руку, пойдем в лес – ну, скажем, в ноябрьский лес, который сегодня утром отволгл после мороза, и все деревья, все ветки, вся трава, каждая усинка, былинка – стали седыми, и светит прохладное солнце, все сверкает, режет глаза белизной, вокруг нас вьются женственные гончие суки, пар клубочками пыхает у них из пасти, и егерь подпоясывается. Подпоясывается егерь, весело глядит на нас, мы – на него, и вот уж мы пошли, зашагали, ружья за плечами, впереди лес с мокро-зеленым мхом, с бурой травой понизу, с серебром поверху, по ветвям, собаки наши одна за другой скрываются в кустах… Мы говорим о погоде, о том, что мало в этом году зайцев (их всегда мало в этом году!), о том, какие у егеря дети, как учатся и чем болеют. Разговоры, табачный дымок, наш стук сердца, волнение, а по сторонам зеленя, опушки, понижения и повышения мохнатеньких издали лесов, холмы, и дали проглядываются резко, собаки пока не брешут, и мы идем, ступаем по замерзшим лужам, лед хрупает, жижа на дороге прыскает на иней, и следы за нами остаются грязные на белой дороге, егерь говорит все «чаво» да «каво» и обязательно важный, веселый, умный (они все такие), за спиной у него рог – один золотится на всем серебряном.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Во сне ты горько плакал - Юрий Казаков», после закрытия браузера.