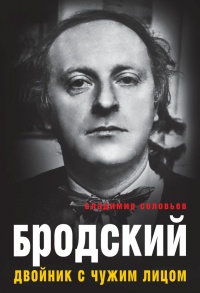Читать книгу "Не только Евтушенко - Владимир Соловьев"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Выжить – это избегнуть своей судьбы. Потому и выживаю, что живу заемной жизнью, чужой судьбой, чужими судьбами, Евтушенкой, евтушенками и неевтушенками. Зубная щетка тех, кто ею пользовался, – вот кто я. Мемуарист – вурдалак и трупоед в одном лице. Даже в своем поколении я был моложе всех, жил жизнями тех, кто старше меня, был с ними на «вы», называл по имени-отчеству: младший современник. А теперь я принадлежу к старому племени, которое ведет девичьи дневники в 70 лет, пишет и перечитывает дряхлые книги с порванными суперами и пожелтевшими страницами да еще ловит последние мгновения любви, упущенные в юности. Теперь я старше тех, кто умер раньше меня. Я пережил их не только хронологически, но и их возраст. Одним судьба жить и умереть, моя судьба – писать. В «Пианисте» у Романа Поланского гибнет всё и вся окрест – родственники, друзья, евреи, немцы, поляки, Варшава, один только пианист выживает, как крыса, на физиологическом уровне, с банкой соленых огурцов, которую ему нечем открыть, – чтобы потом ударить по клавишам и извлечь из инструмента чужую музыку. Музыку чужих жизней хочу и я извлечь этой книгой и следующими. Но и своей – тоже. Московский издатель переименовал мой тузовый «Роман с эпиграфами» в «Три еврея». «Зачем третий еврей?» – спрашивал критик спустя четверть века после того, как я выдавил из себя эту книгу, как выдавливают страх и гной. А один радиоинтервьюер даже оговорился, назвав «Двумя евреями». Что же получается? Что я третий лишний в собственном романе, да еще еврей? И я с пеной у рта доказываю: я и есть главный герой книги, пусть ее антигерой, а не антиподы Бродский и скушнер (по общепринятой, с легкой руки Бродского, в нашей мишпухе кликухе). Что́ я – зеркало на большой дороге, призванное отражать что ни попадя: великого поэта, выдающуюся посредственность, кумира нации, любимых и нелюбимых женщин, случайного прохожего, камень, лужу? Кто я? И есть ли я? Если у меня даже нет своего имени-фамилии, будучи соименником и однофамильцем других Владимиров Соловьевых – несть им числа! «Вам не нужно брать псевдоним», – сказал мне в пору стагнации и антисемитизма один редактор, сам еврей. Как раз мне и надо взять псевдоним! Иванов, Рабинович – всё лучше, чем быть в литературе вторым Владимиром Соловьевым! А на горизонте маячит третий…
Судьба Онегина хранила, но зачем она сохранила Владимира Соловьева второго? Штрейкбрехер истории – вот кто я! Шекспир оправдывал трусов: «Тот, кто бежит, остается жить для борьбы». А какое мне оправдание? Я всегда был упертый в книги, эстет-экстремал, искусство ставил выше жизни (тем более политики), да и сама жизнь есть искусство есть искусство есть искусство, а если в ней нет искусства, ей нет оправдания. Оправдание моей жизни – что я ее описал и продолжаю описывать, бывшую и вымышленную, превращая в искусство. И так до конца, который останется неописанным, что меня смущает больше, чем сам по себе конец. Жизнь – сырье, искусство – ее новая, художественная инкарнация, а смерти нет вовсе: ни одного оттуда письменного свидетельства. Что остается после человека? Слова, краски, звуки. Либо не остается ничего. Ср. Наполеона с Моцартом. Нет, весь я не умру. Остальные – целиком, полностью, без остатка. Потому и не люблю кладбища и равнодушен к кладбищенской эстетике, что память, если не гранит, одуванчик сохранит. Где витает дух автора этих строк? В Сан-Микеле? Да никогда! Или дух Довлатова? В Кедровой роще в десяти минутах от моего нового дома? По пути в китайский ресторан заглянул к нему на этом кладбище-метрополисе. Ассоциаций – зиро. Другое дело – слова, слава, память, китч. Что угодно, но не тлен.
Вот я и перебрался к моим мертвецам. Сменил пейзаж: сначала – на заокеанский, теперь – на кладбищенский. Хоть падаль и не входит в мой разблюдник.
К заокеанскому долго не мог привыкнуть: отсутствие четкой смены времен года, снег раз в пять лет по обещанию, а потому дизастер, вместо Нового года – Рождество (Christ is the God’s Christmas gif), невыносимое лето с тремя H – hot, hazy & humidity, клубника без запаха, помидоры без вкуса, черника не пачкает, крапива не жжется, муравьи не кусаются, дневной павлиний глаз не водится (зато монархи, парусники и прочая экзотика), и только лесные грибы – те же, что в России, при полном отсутствии конкурентов, американы считают их сплошь wild & poisonous – смирили с чужой реальностью.
Грибы плюс свобода, у которой в России все более смутные очертания.
Внутринью-йоркские перемещения даются куда легче.
Наши одинокие четыре дома окружены с одной стороны спускающимся к озеру огромным, но, слава богу, смиренным кладбищем, с другой – оживленным студенческим кампусом, с которого виден весь Манхэттен, с третьей – еврейским местечком детства моих родаков, с четвертой – китай-городом, где, впрочем, выше крыши и других азиатских вкраплений: от афганского и индийского до тайского и корейского.
Итак, одной стороной наша Мельбурн-авеню, параллельная кампусу Куинс-колледжа, выходит на кладбище, куда как-то ночью, тайком, в могилу Сережи подложили его мать – таково было желание Норы Сергеевны, ослушаться которого Лена Довлатова не решилась. А куда положат ее? Как-то я занял у нее пять тысяч на пару месяцев, она безропотно дала, а потом, уже отдав долг, узнал, что у нее одолжили ту же сумму на тот же срок, но так и не вернули. Несмотря на это, Лена дала мне эти пять тысяч – вот это поступок, теперь она в моем представлении на пролет выше.
Другой стороной эта короткая, в полмили, австралийская авеню, по которой ночью шныряют, помимо мертвецов, кенгуру, страусы эму и дикие собаки динго, упирается в Киссену-бульвар, на стыке стоит дом, где жил Берт Тодд, мы его делили с Женей Евтушенко, а сами не общались, кабы не та историческая встреча на панихиде Тодда в Куинс-колледже, куда Берт его устроил, несмотря на мощное, из последних предсмертных сил, противодействие Бродского, но эта нечаянная встреча раскидала нас еще дальше друг от друга: виной тому опять же я. Не сам по себе. А мой антинекролог Берту Тодду с открытием, меня самого поразившим: я подозревал его в легких связях с КГБ, а он оказался тяжеловес ЦРУ – организовал десант в Америку фрондирующих совков-литераторов во главе с Евтушенко по прямой указке, а домой они возвращались в лучах заокеанской славы. За этот докурассказ «Мой друг Джеймс Бонд» на меня накинулись со страшной силой – со всех сторон. «Опять вы вляпались…» – начала выше– и нижепомянутая леди, понаслышке о моем рассказе, но я выругался и повесил трубку. Не первый раз слышу это слово в связи с собой. Как-то я во что-то случайно вляпался буквально – Лена внюхалась в машине, пилила всю дорогу. Повышенная реакция на такие вещи. Если вляпаться левой ногой в дерьмо – это счастливая примета для человека, считают французы. Какой ногой я вляпался, сочинив рассказ «Мой друг Джеймс Бонд» и исказив портрет шестидесятничества? А если этот портрет был искажен изначально, портретисты и портретируемые на одно лицо, а я, наоборот, его выправил? Читателю решать – потому и публикую этот мой докурассказ в который раз. Моему читателю впору выучить его наизусть.
С меня как с гуся вода – что мне, впервые шагать не в ногу? Не спорю: характер у меня зае*истый – вычеркиваю и исправляю на «занозистый», – хотя по жизни я человек беззлобный и покладистый. Как в том анекдоте: ну, скорпион я! Но и скорпион ведь может быть добрым, не обязательно гомофоб, кусачесть у него от природы, а не от души. Я – добрый скорпион. «Dorogoi Volodya! – пишет мне та же Надя Кожевникова латиницей, потому что мой электронный почтальон в упор не узнавал тогда кириллицу. – Prochla Vashu oboimu – kritik Vy blesyaschii, isklyuchitel’no pronitcatel’nyi, na vse sto. I pritom nezhnyi, svoyu skropionistost’ preuvilichivaete».
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Не только Евтушенко - Владимир Соловьев», после закрытия браузера.