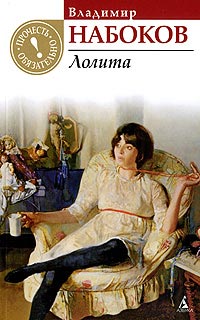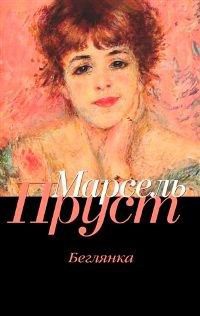Читать книгу "Истинная жизнь Севастьяна Найта - Владимир Набоков"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В начале он, по-видимому, панически боялся сделать не то, что нужно, или, еще того хуже, допустить какую-нибудь неловкость. Кто-то сказал ему, что следует надломить или даже совсем вытащить твердую квадратную распорку из шапки с кисточкой, чтобы оставалось только безформенное черное сукно. Сделав это, он немедленно обнаружил, что совершил грубейший ляпсус всех новичков и что безукоризненный вкус предписывает пренебречь и шапкой, и плащом, отнеся их тем самым к безупречному разряду вещей несущественных, которые в противном случае могли бы посягнуть на некую значительность. Опять-таки зонтики и шляпы возбранялись независимо от погоды, и Севастьян покорно промокал и простужался, покуда в один прекрасный день не познакомился с Д. В. Горжетом, милейшим, ветреным, ленивым, легким человеком, знаменитым своим бретерством, изяществом и остроумием: и вот Горжет преспокойно ходил в котелке и с зонтиком. Когда я приехал в Кембридж пятнадцатью годами позже и лучший университетский товарищ Севастьяна (ныне известный филолог) все это мне поведал, я заметил ему, что все как будто ходят с —— «Точно так, сказал он, Горжетов зонтик расплодился».
— Расскажите, — попросил я, — о спорте, об играх. Хорошо ли Севастьян играл?
Собеседник мой улыбнулся.
— Боюсь, — отвечал он, — что, если не считать непритязательных матчей на размокшем зеленом теннисном корте, где на самых голых проплешинах росло по ромашке, мы с Севастьяном недалеко ушли в спорте. У него была, помнится, замечательно дорогая ракета и очень ему шедшие фланелевые штаны — и вообще он выглядел очень опрятно и хорошо и так далее; но сервировал он слабо, по-женски, метался туда-сюда, то и дело промахивался, да и я был немногим лучше его, и игра наша сводилась к подбиранию своих мокрых, позеленевших мячей или бросанию их игрокам на соседних площадках, и все это под безпрерывно моросящим дождем. Словом, в играх он определенно не блистал.
— Что ж, разве это его не огорчало?
— Пожалуй что и огорчало. Первый его семестр был, можно сказать, отравлен сознанием, что в этом отношении он отстает. Когда он познакомился с Горжетом (у меня на квартире), бедный Севастьян до того разошелся на теннисные темы, что Горжет наконец осведомился, употребляются ли в этой игре клюшки. Это несколько утешило его — он решил, что Горжет, который ему сразу понравился, тоже плохой спортсмен.
— В самом деле?
— Как вам сказать… в рагби у него было голубое отличие…[37]но тенниса он может быть и не любил. Как бы там ни было, Севастьян скоро преодолел этот комплекс спорта. И вообще говоря ——
Мы сидели в едва освещенной, обшитой дубом комнате, в креслах до того низких, что можно было, опустив руку, взять поднос с чайными принадлежностями, смиренно стоявший на покрытом ковром полу, и дрожащие блики огня, отражавшиеся в медных шарах очага, создавали ощущение, что дух Севастьяна витает над нами. Мой собеседник знал его так коротко, что, надо думать, он не ошибался, предположив, что в усилиях Севастьяна переангличанить самих англичан коренилось чувство какой-то неполноценности, и хотя это ему никак не давалось, он упорствовал, покуда наконец не пришел к выводу, что его подводят не все эти внешние вещи, не ухищрения новомодного жаргона, но самое его стремление быть и вести себя как все прочие, между тем как он был счастливо обречен на одиночное заключение в себе самом.
Тем не менее он спервоначалу изо всех сил старался быть студентом как все. В коричневом халате и в старых шаркунах на босу ногу, с мыльницей и губкой в клеенчатом мешке, он каждое зимнее утро шествовал в ванное заведение за углом. К утреннему чаю он приходил в столовую и ел овсяную кашу того же понурого, серого цвета, что и небо над Большим Двором, с померанцевым вареньем того же точно оттенка, что плющ на его стенах. Он садился на свой «педальон», как выразился источник моих сведений, и, перекинув плащ через плечо, катил от одного лекционного корпуса до другого. Завтракал он у Питта (что-то вроде клуба, как я понял, где по стенам были, наверное, развешаны картины с лошадями и очень старые лакеи задавали свою вечную загадку. «Вам густого или жидкого?»). Он играл в файвс (уж не знаю, что это за игра такая) или в другую какую-нибудь нешумную игру, а потом пил чай с двумя-тремя приятелями; разговор ковылял между горячей вафлей и трубкой, тщательно обходя все, что еще не было сказано другими. До обеда оставалось одна или две лекции, а потом опять университетская столовая, весьма импозантное заведение, которое было мне любезно показано. Там шла уборка, и толстые белые икры Генриха Восьмого просились, чтобы их пощекотали[38].
— Где же он сидел?
— Вон там, у стены.
— Как же он туда пробирался? Столы-то вон какие — чуть не с версту.
— А он вставал на скамью и шагал по всему столу. Иногда по пути ступал в тарелку, но таков уж был его обычай.
После обеда он возвращался к себе или отправлялся с каким-нибудь молчаливым спутником в маленький кинематограф на рыночной площади, где показывали фильму о Диком Западе или о том, как Чарли Чаплин улепетывает от громадного злодея, семеня на поворотах как на льду.
Так он провел три или четыре семестра, а потом с ним произошла интересная перемена. Ему вдруг разонравилось то самое, что, по его мнению, должно было ему нравиться, и он тихо обратился к настоящему своему делу. Внешне эта перемена выразилась в том, что он выпал из распорядка университетского быта. Он больше ни с кем не видался, кроме моего осведомителя, остававшегося в его жизни единственным, может быть, человеком, с кем он держался откровенно и просто, — их связывала искренняя дружба, и я понимал Севастьяна вполне: скромный этот профессор произвел на меня впечатление человека чрезвычайно приятного и самого порядочного. Оба они увлекались английской литературой, и Севастьянов друг уже тогда задумал свой первый опус, «Законы литературного воображения», за который спустя два или три года удостоился Монтгомеровской премии.
— Признаюсь, — сказал он, гладя пушистую голубоватую кошку с серо-зелеными глазами, неизвестно откуда взявшуюся, а теперь удобно устроившуюся у него на коленях, — признаюсь, на этой стадии нашей дружбы Севастьян вызывал у меня тревогу. Когда его не было на лекции, я, бывало, заходил к нему и заставал еще в постели, где он лежал, свернувшись калачиком как спящее дитя, но при этом угрюмо курил, и смятая подушка была обсыпана пеплом, а простыня, которая свисала до пола, была вся в кляксах. В ответ на мое бодрое приветствие он что-то бурчал и не соизволивал даже переменить положения; я, бывало, постою-постою, чтобы убедиться, что он не болен, да и уйду завтракать, а после прихожу опять — а он только перевернулся на другой бок и приспособил туфлю под пепельницу. Предложу принести ему что-нибудь из съестного — у него никогда ничего в буфете не водилось — и потом приду со связкой бананов, и он вдруг начинает шалить как обезьянка и принимается поддразнивать меня какими-нибудь невразумительными безнравственными сентенциями о жизни, о смерти, о Боге, что он особенно любил делать, потому что знал, что мне это неприятно, хотя я никогда не думал, что он это всерьез. Наконец около трех или четырех часов пополудни он надевал халат и шаркал в гостиную, садился, поджав ноги, у камина и почесывал голову, а я в негодовании удалялся. А на другой день я мог заниматься у себя в берлоге, и вдруг на лестнице слышался громкий топот и в комнату вваливался Севастьян — чистый, свежий, взволнованный, с только что конченным стихотворением.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Истинная жизнь Севастьяна Найта - Владимир Набоков», после закрытия браузера.