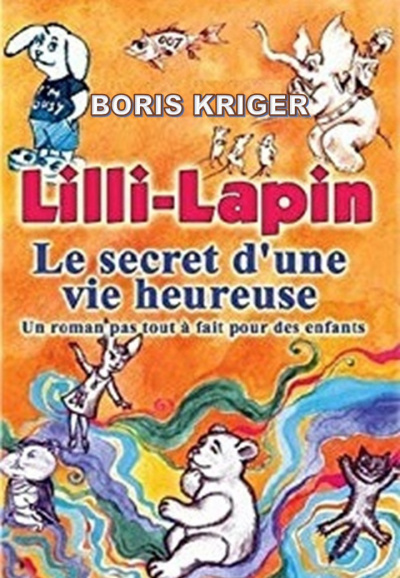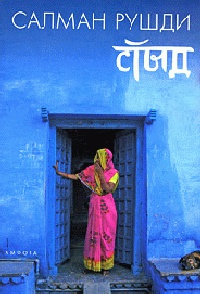Читать книгу "Книга стыда. Стыд в истории литературы - Жан-Пьер Мартен"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но портрет, нарисованный выше, скрывает другую ипостась Крипюра: это утонченный философ, оригинальный ум. Его отделяют от мира в первую очередь его «бунтовские идеи». Его воспринимают то как «особенного человека», то (его бывшие ученики) как мэтра или «достойного человека». Созерцая мир свысока, он видит окружающих людей как мокриц и боится влезать в их шкуру. Его несчастье — чувствовать, что он, может быть, стал как они — «туго спеленатым, затерянным в глубинах человеком». Его отрада — оставаться вне, мыслить совершенно свободно, присутствовать при той или иной сцене, ощущая себя театральным зрителем, или превратиться в подводника: «Он внушил себе, что будет смотреть на весь окружающий мир не иначе как через перископ».
Итак, Крипюр — не просто гротескное воплощение стыда. Он одновременно стыдится и презирает (оставаясь «привязанным к тому, что презирает»). В нем есть что-то от Ницше. Окружающих он воспринимает как «стадо». Больше всего его ужасает торжество пошлости. Таков парадокс Крипюра: величайший стыд сопрягается с самой большой возвышенностью ума. Его трагедия в том, что он, в отличие от лорда Джима, не сумел бежать. «Другим, которыми он восхищался, достало на это смелости. В один прекрасный день они разбили оковы позора, порвали якорную цепь, связывавшую их с равно гнусными настоящим, прошлым и будущим. Свободные, они были готовы попытать счастья».
Таков Крипюр, человек стыда, порой ясновидящий, в высшей степени сознаюший то, что сеет несчастье вокруг: табель о рангах, империализм возвышенности и величия. Отныне ему представляется, что нет спасения вне двух этих крайностей — либо сделаться совсем маленьким, почти невидимым, либо выйти далеко за пределы самого себя и двинуться по пути к обожествлению. Что ж, человек стыда должен брать на себя свое тело. Его тело — это его бремя. Оно всегда с ним, как нечто невыносимо присутствующее, тяжесть, которая придает недостойную меру.
* * *Собственно говоря, существует множество разновидностей стыда собственного тела. Прежде всего, таков общий, всеми разделяемый стыд по поводу низших проявлений: жира, пота и прочих выделений (Селин: «Человек всегда будет стыдиться кишок»). Затем это индивидуальный стыд какого-нибудь особенного безобразия или несовершенства, достигающий апогея в случае увечья или уродства. Так обстоит дело у страдающего косолапостью персонажа «Золотого храма» Мисимы. Или у Ружены Седлак («Вондрак» Стефана Цвейга), лицо которой — зияющая дыра и которую прозвали «Мертвой головой»: «Бесчестье вошло в ее жизнь вместё с речью и каждую секунду снова напоминало ей о том, что этот крохотный недостающий кусочек кости безжалостно исключал ее из людского общества. […] Косящий глаз, ввалившаяся губа, рот до ушей: эти неслыханные оплошности природы способствовали все возрастающим мучениям человеческого существа, неискоренимому смятению души»[29]. В этом случае стыд как бы замыкается в себе, это постоянное, хроническое состояние, тело-для-других, ни на мгновение не имеющее сил забыться.
Но есть и стыд телесного бытия как присутствия себя в себе, стыд скорее скрытый, обращенный к любой телесной оболочке и охватывающий все ее возможные проявления, — тот самый стыд, который испытывает герой «Тошноты» Сартра Антуан Рокантен, когда, посмотрев на себя в зеркало, он находит, что ни красив, ни уродлив. Или Т. Э. Лоуренс, ошеломленный не стыдом конкретного тела, его уродства или бесчестья, но чувством телесности как таковым: «Я […] стыдился своей неловкости, своей физической оболочки и своей непривлекательности, делавшей меня человеком некомпанейским. У меня было такое чувство, что меня считали поверхностным. […] Моя деятельность была перегружена деталями, так как я не был человеком действия. Это была интенсивная деятельность сознания, всегда заставлявшая меня смотреть на любые факты с позиции критики»[30]. Лоуренс видит, как меняется он в присутствии других. Он разрывается пополам: одна половина играет роль нежданного незнакомца, тогда как другая напрямую участвует в этом превращении. Чувство непохожести и раздвоения рождает в нем что-то вроде склонности к обману: «Застенчивость, порожденная неуверенностью в себе, — добавляет Лоуренс, — ложилась на мое лицо маской, часто маской безразличия или легкомыслия, и озадачивала меня».
Делёз пишет о Лоуренсе: «Он испытывает стыд, поскольку убежден, что даже самый светлый ум неотделим от непоправимо скроенного тела. […] Ум одержим телом: стыд ничего бы не стоил без этой одержимости, этого влечения к безобразному, этого вуайеризма ума. Это значит, что ум стыдится тела в очень своеобразном смысле: он стыдится ради тела. Он словно бы говорит телу: „Ты вызываешь у меня стыд, тебе должно быть стыдно“».
То же верно и в отношении Кафки. Тело Кафки само себя наблюдает. Писатель ведет скрупулезный учет своих унижений, своих физических катаклизмов, и мы понимаем, до какой степени его воображение — особенно это относится к «Превращению» — берет начало во внутреннем ощущении собственного тела, почему все его творчество пронизано стыдом, наготой и страданием. Средоточие всех былых несчастий и всех грядущих катастроф само выставляет себя напоказ, раздваивается и распадается, выводит себя на сцену в спектакле театра ужасов и жестокости, участники которого — чудовища. «На один только миг я почувствовал себя закованным в панцирь. Например, мне показалось, что мышцы моих рук словно бы отдалились от меня». Другу детства, Оскару Поллаку, Кафка пишет: «Когда стеснительный Ланге вставал со своего табурета, он чуть не стукался своим большим нескладным черепом о потолок и пробил бы насквозь не только его, но высунулся бы через соломенную кровлю, если бы не помнил каждый раз про осторожность»[31]. А вот письмо Максу Броду, июль 1916 года: «…После тягостных ночей с открытым ртом я ощущаю свое тело выпачканным и наказанным — как будто в моей постели завелась неизвестная грязь».
В начале «Дневника» Кафка размышляет о мотивах, подтолкнувших его вести интимные записи: «Конечно же, я пишу все это, побуждаемый отчаянием, в которое повергает меня мое тело и будущее моего тела». И наоборот, в записи от 15 августа 1911 года он замечает: «Период, который только что завершился и за который я не написал ни единого слова, был для меня очень важен, потому что в бассейнах Праги, Кёнигсзаля и Черношиц я перестал стыдиться своего тела. То, что я с таким опозданием взялся в двадцати восьмилетием возрасте устранять пробелы в моем воспитании, можно сравнить с запоздалым стартом в забеге. И главное зло в случае такой неудачи, может быть, состоит не в проигрыше; это было бы всего лишь
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Книга стыда. Стыд в истории литературы - Жан-Пьер Мартен», после закрытия браузера.