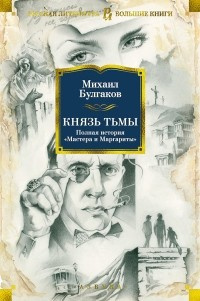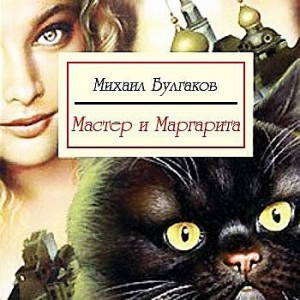Читать книгу "«Я хотел служить народу...»: Проза. Пьесы. Письма. Образ писателя - Михаил Афанасьевич Булгаков"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Москва звучит, кажется, — неуверенно сказал я, наклоняясь над перилами.
— Это — нэп, — ответил мой спутник, придерживая шляпу.
— Брось ты это чертово слово! — ответил я. — Это вовсе не нэп, это сама жизнь. Москва начинает жить.
На душе у меня было радостно и страшно. Москва начинает жить, это было ясно, но буду ли жить я? Ах, это были еще трудные времена. За завтрашний день нельзя было поручиться. Но все же я и подобные мне не ели уже крупы и сахарину. Было мясо на обед. Впервые за три года я не «получил» ботинки, а «купил» их; они были не вдвое больше моей ноги, а только номера на два.
Внизу было занятно и страшновато. Нэпманы уже ездили на извозчиках, хамили по всей Москве. Я со страхом глядел на их лики и испытывал дрожь при мысли, что они заполняют всю Москву, что у них в кармане золотые десятки, что они меня выбросят из моей комнаты, что они сильные, зубастые, злобные, с каменными сердцами.
И, спустившись с высшей точки в гущу, я начал жить опять. Они не выбросили. И не выбросят, смею уверить.
Внизу меня ждала радость, ибо нет нэпа без добра: баб с дырами на темени выкинули всех до единой. Паутина исчезла; в окнах кое-где горели электрические лампочки и гирляндами висели подтяжки.
Это был апрель 1922 года.
Панорама третья: на полный ход
В июльский душный вечер я вновь поднялся на кровлю того же девятиэтажного нирензеевского дома. Цепями огней светились бульварные кольца, и радиусы огней уходили к краям Москвы. Пыль не достигала сюда, но звук достиг. Теперь это был явственный звук: Москва ворчала, гудела внутри. Огни, казалось, трепетали, то желтые, то белые огни в черно-синей ночи. Скрежет шел от трамваев, они звякали внизу, и глухо, вперебой, с бульвара неслись звуки оркестров.
На вышке трепетал свет. Гудел аппарат — на экране был помещичий дом с белыми колоннами. А на нижней платформе, окаймляющей верхнюю, при набегающем иногда ветре шелестели белые салфетки на столах, и фрачные лакеи бегали с блестящими блюдами. Нэпманы влезли и на крышу. Под ногами были четыре приплюснутых головы с низкими лбами и мощными челюстями. Четыре накрашенных женских лица торчали среди нэпманских голов, и стол был залит цветами. Белые, красные, голубые розы покрывали стол. На нем было только пять кусочков свободного места, и эти места были заняты бутылками. На эстраде некто в красной рубашке, с партнершей — девицей в сарафане — пел частушки:
У Чичерина в Москве
Нотное издательство!
Пианино рассыпалось каскадами.
— Бра-во! — кричали нэпманы, звеня стаканами. — Бис!
Приплюснутая и сверху казавшаяся лишенной ног, девица семенила к столу с фужером, полным цветов.
— Бис! — кричал нэпман, топотал ногами, левой рукой обнимал даму за талию, а правой покупал цветок. За неимением места в фужерах на столе, он воткнул его в даму, как раз в то место, где кончался корсаж и начиналось ее желтое тело. Дама хихикнула, дрогнула и ошпарила нэпмана таким взглядом, что он долго глядел мутно, словно сквозь пелену. Лакей вырос из асфальта и перегнулся. Нэпман колебался не более минуты над карточкой и заказал. Лакей махнул салфеткой, всунулся в стеклянную дыру и четко бросил:
— Восемь раз оливье, два лангет-пикана, два бифштекса.
С эстрады грянул и затопал лихой, веселый матросский танец. Замелькали ноги в лакированных туфлях и в штанах клешем.
Я спустился с верхней площадки на нижнюю, потом в стеклянную дверь и по бесконечным широким нирензеевским лестницам ушел вниз. Тверская приняла меня огнями, автомобильными глазами, шорохом ног. У Страстного монастыря толпа стояла черной стеной, давали сигналы автомобили, обходя ее. Над толпой висел экран. Дрожа, дробясь черными точками, мутясь, погасая и опять вспыхивая на белом полотне, плыли картины. Бронепоезд с открытыми площадками шел, колыхаясь. На площадке, молниеносно взмахивая руками, оборванные артиллеристы с бантами на груди вгоняли снаряд в орудие. Взмах руки, орудие вздрагивало, и облако дыма отлетало от него.
На Тверской звенели трамваи, и мостовая была извороченной грудой кубиков. Горели жаровни. Москву чинили и днем и ночью.
Это был душный июль 1922 года.
Панорама четвертая: сейчас
Иногда кажется, что Больших театров в Москве два. Один такой: в сумерки на нем загорается огненная надпись. В кронштейнах вырастают красные флаги. След от сорванного орла на фронтоне бледнеет. Зеленая квадрига чернеет, очертания ее расплываются в сумерках. Она становится мрачной. Сквер пустеет. Цепями протягиваются непреклонные фигуры в тулупах поверх шинелей, в шлемах, с винтовками с примкнутыми штыками. В переулках на конях сидят всадники в черных шлемах. Окна светятся. В Большом идет съезд.
Другой такой: в излюбленный час театральной музы, в семь с половиной, нет сияющей звезды, нет флагов, нет длинной цепи часовых у сквера. Большой стоит громадой, как стоял десятки лет. Между колоннами желто-тускловатые пятна света. Приветливые театральные огни. Черные фигуры текут к колоннам. Часа через два внутри полутемного зала в ярусах громоздятся головы. В ложах на темном фоне ряды светлых треугольников и ромбов от раздвинутых завес. На сукне волны света, и волной катится в грохоте меди и раскатах хора триумф Радамеса. В антрактах в свете золотым и красным сияет Театр и кажется таким же нарядным, как раньше.
В антракте золото-красный зал шелестит. В ложах бенуара причесанные парикмахером женские головы. Штатские сидят, заложив ножку за ножку, и, как загипнотизированные, смотрят на кончики своих лакированных ботинок (я тоже купил себе лакированные). Чин антрактного действа нарушает только одна нэпманша. Перегнувшись через барьер ложи в бельэтаже, она взволнованно кричит через весь
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги ««Я хотел служить народу...»: Проза. Пьесы. Письма. Образ писателя - Михаил Афанасьевич Булгаков», после закрытия браузера.