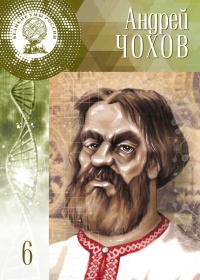Читать книгу "Испанский смычок - Андромеда Романо-Лакс"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
С каждым месяцем становилось все более очевидно, что правы были мы, а они ошибались. Ведь это мы кричали, что падение Испанской республики вымостит дорогу тоталитаризму. Так и произошло. Силы, выступившие против Испании, снабжавшие фашистов оружием, самолетами и солдатами, повернули свои набравшиеся опыта войска против всей демократической Европы. Мы умоляли, мы просили, плакали, рисовали, играли. Что еще мы должны были делать?
Если я не буду играть, то и никто другой не должен играть. Может быть, тогда люди обратят на нас внимание. Если у них не будет ни музыки, ни театра, ни развлечений, может быть, тогда они перестанут закрывать глаза на то, как уверенно маршируют по миру фашисты. Мануэль Рокамура, молодой виолончелист, которому я в 1934 и 1935 годах давал мастер-классы, запланировал турне по Америке. На вопрос репортера, что я думаю по этому поводу, я ответил, что Рокамура должен по примеру других артистов прекратить развлекать государства, отказывающие Испании в помощи. Мое имя имело вес, мнение стало широко известно. Возмущенная реакция Рокамуры вызвала ожесточенные споры. И вскоре я узнал, что с пластинок исчез фирменный знак Рокамуры, а его турне по Америке было отменено. После Второй мировой войны я больше не видел его имени в газетах, хотя и искал его.
Возможно, я рассуждал неверно. Возможно, меня переполняли эмоции. Но то, что стало известно позднее, подтвердило мою правоту. Мы узнали о музыкантах-евреях, которые с разрешения нацистов продолжали выступать, веря, что тем самым спасутся. Они и сами отказывались бежать, и других евреев отвлекали от трезвой оценки их положения, чем ускоряли собственную гибель, а может, даже выступали в роли пособников нацистов. Мне могут возразить, что в лагерях еврейские артисты своей музыкой поддерживали моральный дух заключенных, что многим из них помогло выжить. Но факты говорят о другом. Верность искусству никому из узников лагерей не придала особых сил. Скорее, напротив, чувство вины за участие в жалком спектакле, по ходу которого одних заставляли исполнять музыку, пока других гнали в газовые камеры, подрывало и те немногие силы, что у них оставались. Не было никакого благородства в этих роковых серенадах. И не надо сравнивать этих людей с участниками героического квартета, не выпускавшего из рук инструментов, пока тонул «Титаник». Они не спасали жертвы. Они выполняли волю дьявола.
Я предпринял последнюю публичную попытку быть услышанным. Прошло лето, а осенью ко мне пришел Аюб и уговорил съездить с ним на юг Франции, где большинство испанских беженцев проживало в лагерях за колючей проволокой. Всю неделю мы собирали пожертвования: пакеты с сухим молоком, иголки, бинты. Поехали автомобилем, вместе с женщиной-фотографом. Она снимала людей, сидящих рядами, как послушные дети, на желтеющей траве. Им раздавали по куску хлеба. Между рядами сновали сотрудники лагеря, внимательно следившие, чтобы не возникло драки и чтобы никому не вздумалось пересесть в надежде получить второй кусок. Были здесь и настоящие дети — грязные, подстриженные под горшок. Женщины, одетые в бесформенные платья, прижимались друг к другу, защищаясь, от осеннего холода, и безучастно смотрели, как мы несем свои скудные подачки через лагерь.
Часть беженцев ночевала в бараках, но на всех бараков не хватало, и многим приходилось спать в ямах, вырытых в песчаном грунте. Фотограф заставила меня встать возле этих нор и сделала несколько снимков. «Нет-нет, — командовала она, — не смотрите на меня. Загляните в нору». Я выполнил ее просьбу. Первым, что бросилось мне в глаза, была какая-то темная тень. Приглядевшись, я понял, что это спутанные черные волосы. Коричневатая масса оказалась одеждой. Стоял полдень, но обитательница норы так и не выбралась наружу. Вдруг я вздрогнул всем телом. Эта кошмарная картина была мне знакома — серое, размытое небо, плотные комки травы, песочные норы. Грудь сдавило от внезапно нахлынувшего воспоминания.
Я видел эту сцену в кошмарном сне. Мне было тогда около шести лет. Я проснулся от страха. Стояло раннее утро, и мать собиралась на вокзал. Я уговорил ее взять меня с собой. Она нервничала перед прибытием поезда и выспрашивала, что именно мне снилось. Не коробка? Нет, не коробка, успокоил я ее. Какие-то дыры в песке. Почему-то я их испугался.
Пришли дежурные по лагерю и вытащили женщину с успевшим посинеть лицом. Горестно вздыхая, они говорили, что у нее нет здесь никого из родственников, поэтому никто не заметил, что ее не было ни на вчерашнем ужине, ни утром, после сигнала. Я сообщил Аюбу, что должен уехать сейчас же, не завтра и не послезавтра, а немедленно, потому что знаю: что-то случилось с моей матерью. В Испанию я вернуться не мог, но был уверен, что в Париже меня ждут новости. Я оказался прав. В телеграмме, которую я нашел под дверью, сообщалось, что четыре дня назад в Барселоне скончалась моя мать.
Следующие три года я провел как во сне. В Париже ввели нормирование продуктов. Три дня в неделю объявили вегетарианскими. В эти три дня в ресторанах не подавали крепкие напитки, а в булочных не продавали выпечки. Но для меня это практически не имело значения. Я довольствовался бобами, хлебом и водой. Если удавалось, покупал кусок твердого сыра и оставлял его на столе нетронутым дня по три, как в детстве не прикасался к квадратикам шоколада. Я всегда гордился своим аскетизмом, своей способностью к воздержанию.
Виолончель стояла в дальнем углу комнаты. Я к ней не притрагивался. Однажды зашел Макс Аюб. Он знал о моем решении не играть, но думал, что оно касается только публичных выступлений. При виде задвинутой в угол виолончели, накрытой куском ткани, он был поражен. Я не стал объяснять ему, что под тканью держу горшок с водой, чтобы инструмент не рассохся. Виолончель ни в чем передо мной не провинилась. Если я на кого и злился, то на это время, этот мир и эту жизнь.
Просыпаясь поздним утром, я нехотя спускал ноги с тонкого матраца, несколько минут кашлял, заставлял себя встать и брел через комнату, чтобы одеться. По пути заглядывал в горшок и доливал воды — так заботливый хозяин наполняет кошке плошку с водой. Смычок я хранил под кроватью: от воров, как я сам себя убеждал.
Отказ от занятия, которому посвятил всю жизнь, подобен отказу от глубоко укоренившейся привычки. Первые дни пережить легко. Но вот дальше… Дальше началась подлинная мука. Я стал забывать, что чувствует тело, прижимаясь к изгибам деревянного корпуса. Стиралось ощущение прикосновения струн к мозолям на кончиках пальцев. За эти годы я так слился с виолончелью, что без нее сам себе казался лишившимся способности адекватно воспринимать мир. Из водопроводного крана капала вода, и это капанье доводило меня до безумия. Без музыки уши стали болезненно чуткими к любым звукам. Я обернул кран мочалкой, но оставались другие звуки: шаги людей наверху, скрип кроватей, хрип в груди в результате подхваченного зимой бронхита.
Единственным местом, где мое тело чувствовало себя в покое, где мой разум мог свободно наслаждаться запомнившимися мелодиями, был сон. Я спал по двенадцать часов без перерыва, тем не менее после обеда ложился вздремнуть еще на пару часов. В жаркие дни я сидел в изношенных штанах и влажной нижней рубашке. Когда наступали холода, заворачивался в рваные одеяла, которые волочились за мной, когда я ходил по комнате, полируя на пыльном деревянном полу узкую дорожку.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Испанский смычок - Андромеда Романо-Лакс», после закрытия браузера.