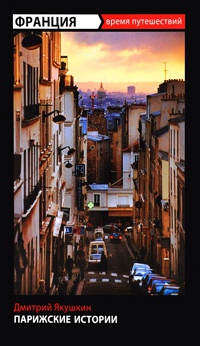Читать книгу "Советская литература: мифы и соблазны - Дмитрий Быков"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Можно как угодно трактовать «сердце жжет» и «к первой льнет» – это общеупотребительные поэтические банальности. А вот «ключ дрожит в замке, чемодан в руке» – это хоть раз жизни испытывал каждый. Хотя и здесь я встречал полярные трактовки. Одни говорят, что он ушел из дома и пришел к последней возлюбленной с одним чемоданчиком, поэтому у него «ключ дрожит в замке, чемодан в руке». Другие – что он уходит из дома, запирая за собой дверь, уходит, разумеется, к последней возлюбленной, поэтому у него «ключ дрожит в замке, чемодан в руке».
Не важно, уходит он или приходит, – важно, что каждый из нас эту ситуацию соотносит с последней любовью, когда ты уходишь, понимая, что это, может быть, навсегда и прийти тебе, возможно, будет некуда. И всякий раз эта строчка обжигает по-новому. Вот эти ключ и чемодан после двух абсолютно размытых лирических туманностей сразу же позволяют каждому сказать: «Это обо мне». Потому что начало как бы про всех, и тут вдруг возникает эта убийственная конкретика.
Дальше еще точнее:
Конечно, здесь речь идет о том, что Сергей Гандлевский назвал «самосудом неожиданной зрелости», потому что первая война – это, как правило, война наших романтических мечтаний, вторая, «чья-нибудь вина», – конкретная война, в которой мы хоть раз, да поучаствовали, даже если только в армии служили. А третья – это война с самим собой, война, которая «моя вина» и ничья более.
Ну и наконец, третья строфа, финальная, которая еще точнее и еще жестче:
Вот эти три круга жизни. Когда первое предательство, или первый обман, или первую ошибку еще можно списать на розовые туманы юности. Второй – «закачался пьян» – тоже каждый трактует по-своему, но здесь явно то опьянение, то самообольщение, которое Окуджава ненавидел больше всего и с которым всегда боролся. А третья – та самая последняя правда, которая обжигает и не оставляет уже никаких сомнений, которую не переживешь, потому что прежние гипнозы и утешения не работают.
Вот как предельная размытость общего сюжета и предельная конкретика частностей позволяют любому вписать себя в предложенную Окуджавой парадигму.
Я уже не говорю о самой знаменитой его ранней «Песенке о Ваньке Морозове», которая тоже трактуется чрезвычайно полярно. Что случилось, собственно, с Ванькой Морозовым?
(или «Он в цирк ходил на Старой площади» – в зависимости от настроения Окуджава пел по-разному, может, вспоминая пародию Геннадия Шпаликова «За что ж вы Клима Ворошилова?..»
А Ванька:
Почему этот сюжет воспринимается как совершенно ясный, несмотря на размытость происходящего? Потому что на уровне формы точно передается содержание. Есть грубые и простые мужские рифмы, даже более того, не грубые, а тавтологичные. Мало того, что «ждешь – идешь», но даже «все равно – все равно» – в чистом виде «ботинки – полуботинки». А женская рифма либо сложная и изысканная, либо вообще дактилическая, «сотни – сохнет» – высший класс. Получается песня о погоне грубого и примитивного мужского за сложным и ускользающим женским. И в результате весь сюжет песни так наглядно иллюстрируется на уровне формы, что мы даже бессознательно вчитываем туда все свои представления о подобных историях.
Второй, наиболее, пожалуй, распространенный у Окуджавы прием – параллельное развертывание двух планов повествования, параллельная история общей и частной жизни или параллельное прописывание фона и истории на нем. Самый простой пример, конечно, – «Песенка о голубом шарике» (1957):
Казалось бы, это такой примитив, что любое хокку по сравнению с этим текстом выглядит сложным и многоплановым произведением. Но наличие двух планов повествования создает неочевидный мерцающий смысл. По точному выражению Николая Алексеевича Богомолова, слово Окуджавы «мерцает». Слово Окуджавы неконкретно. Мерцание смысла – это именно неочевидное соотношение между двумя планами повествования. Есть одна нерушимая реальность – «а шарик летит».
О чем в стихотворении речь – тоже самые разные попытки истолкования: что это летит вечная мечта, вечная надежда, символ вечной и некончающейся жизни или что это земной шар летит в бездну, пока мы тут проигрываем наши мелкие драмы. Каждый может понять это сочинение по-своему. Несомненным остается одно – щемящее чувство, с которым мы выходим из песни. Его можно сформулировать примерно так: ужасно, что что́ бы ни происходило в нашей жизни, – жениха нет, шарик улетел, мало пожила, – мир-то будет оставаться неизменным и без нас, шарик-то так и будет лететь. И что бы с нами ни случилось, в этом ничего не изменится. А это чувство настолько общее, настолько универсальное, что трудно найти человека, который не испытал бы его хоть раз.
Еще нагляднее эти два плана видны в менее известной сегодня, но очень популярной в свое время песенке – в «Часиках» (1969). Благодаря сохранившемуся черновику мы знаем их первый – очень слабый – вариант. А вот во втором вдруг получилось гениально. Потому что в первом варианте все было названо своими именами:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Советская литература: мифы и соблазны - Дмитрий Быков», после закрытия браузера.