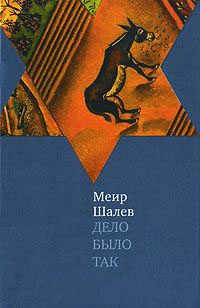Читать книгу "Эсав - Меир Шалев"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
С того дня они ждали вместе. Яков — наследника, тетка Дудуч — сосунка. Каждое утро они оставляли возле Леиной постели очищенный миндаль и сушеные яблоки. Вместе переворачивали ее с боку на бок и вместе поднимали одеяло — проверить, как набухает ее живот.
Иногда Лея вставала, чтобы справить свои нужды, — глаза закрыты, руки растопырены, как сяжки, ноги скользят по паркету, как настороженные собаки-ищейки. «Я такая толстая…» — слышал Яков ее бормотание перед тем, как она исчезала в своем склепе. Но и когда ребенок уже начал толкаться в ее животе, она не проснулась — только веки то и дело начинали вдруг трепетать, как крылья наколотой бабочки. Теперь она стала очень грузной, ее трудно было одевать, и, когда она выходила из своей комнаты нагишом, с поднятым горой животом и закрытыми глазами, Якову казалось, что она следит за ним и за миром сосками своих грудей.
Никто из соседей не знал о ее беременности, но все говорили, что Яков начал печь такой хлеб, какого не выпекали никогда на свете. И в этом не было ничего удивительного, потому что месил ли он, формовал, зажигал или вынимал — он не переставал думать о будущем ребенке. По ночам в пекарню стали приходить какие-то незнакомые люди, они хватали и рвали руками буханки, пожирали хлеб, словно изголодались до безумия, и смотрели, как он работает. «Бросьте деньги вон в тот ящик», — говорил Яков и не добавлял ни слова.
На седьмом месяце беременности врач решил, что Лея должна рожать с помощью кесарева сечения. Он назначил дату рождения ребенка и позаботился, чтобы Якову, в силу «особых обстоятельств», разрешили присутствовать в операционной.
Наступил день родов, и Яков, вызвав поселковую карету «скорой помощи», отправился с Леей рожать себе сына. В больнице на него надели хирургический халат и напялили на голову чепчик, который вполне мог сойти за колпак пекаря, если б не его зеленый цвет. Лею уложили на металлический стол и воткнули ей в спину шприц. Она была такая большая и дышала так тяжело, что казалась похожей на увиденного им однажды на газетной фотографии кита, которого выбросили на берег волны и отчаяние.
Хирурги быстро взрезали низ ее живота. Они перебрасывались короткими отрывистыми словами. Их пот и ножи сверкали. Глаза моргали над полумасками. Они развернули и прикрепили куски кожи на краях разреза, промокнули кровь, раздвинули желтоватые, податливые складки жира. Сестра поставила на шею Леи матерчатую ширму, как будто боялась, что та увидит своих мучителей и что они с ней делают, и Якову вдруг показалось, будто ее голова тоже отделена от туловища руками какого-то палача или чародея. Хирурги расчленили давно отчаявшиеся и увядшие мышцы живота, развернули и раскатали оболочки, вскрыли пленки, копнули — и обнажили матку. Яков застонал. Самое тайное из желаний, то, что томит всех до единого мужчин, хотя признаются в нем только выходцы из Германии и России, — желание заглянуть внутрь любимой женщины, — исполнилось у него на глазах.
И вдруг глаза Леи открылись, и она уставилась на него, не отводя взгляда. «Потуши свет, Яков, я хочу спать», — сказала она удивленным, слабым голосом.
Пекарь опустил голову и задрожал. Блики крови и куски мяса так и прыгали перед его глазами. Отливала лиловым матка — могучий баклажан на ложе кишок. Ему хотелось упасть на колени, положить туда свою голову, потрогать и поцеловать, но врач сделал надрез, просунул руку меж двумя кусками и с торжеством фокусника извлек оттуда светлого, нежного младенца.
Глаза Якова наполнились слезами. В отличие от тех, что обречены родиться обычным путем и появляются на свет Божий увенчанные короной крови и кала, уродливые, сердитые, готовые к бою, этот ребенок был ангелоподобен и весь светился. Зачатие, не знавшее удовольствия, беременность, прошедшая во сне и дреме, и роды, не потребовавшие усилий, даровали ему спокойный темперамент и чистое, гладкое лицо. Он не издал первого крика даже после того, как врач пошлепал его по попке, и при всем том его дыхание было таким мерным и глубоким, что по лицам хирургов разлилась довольная улыбка.
Слезы Якова были слезами счастья, смешанного с огорчением. Он с первого же взгляда понял, что это не тот мальчик, о котором он молился, но любовь растворила эту боль и придала ему силы. Едва лишь педиатр закончил свои проверки и передал ребенка отцу, Яков, прежде чем его успели остановить, торопливо повернулся, толкнул створки дверей и вышел из операционной в тамбур, а оттуда в коридор, не обращая внимания на крики врачей и тянувшиеся к нему руки медсестер. Дудуч, его старая тетка, способная расслышать тусклую струйку зачатия и неясное пение зародыша, уже расхаживала нетерпеливо по коридору, глухо ворча в ожидании.
— Возьми, тетя, — сказал Яков. — Я принес тебе еще одного ребенка.
На тутовом дереве, что росло во дворе пекарни, налились и потемнели созревшие плоды. Четыре дочки Идельмана пришли нарвать себе шелковицы для варенья. Хромоногий Шимон приковылял к дереву и стал под ним.
— Девочки, будьте очень-очень осторожны! — кричал он со страхом.
В поселке говорили, что вся его заботливость—просто предлог заглянуть девочкам под юбки, но истина состояла в том, что Шимон на самом деле ждал, чтобы хоть одна спелая и сверкающая ягодка выпала из их пальцев и обагрила его кожу. Идельман, который это понимал, не пенял ему, и в ту ночь они работали вдвоем, потому что Яков остался в больнице — заглядывать через большое окно в палату новорожденных и, подобно всем родителям, производить эксперименты. Так, он понял, что, когда закрывает глаза, у него не получается представить себе черты лица ребенка. Яков решил было, что это усталость играет с ним злые шутки, но потом, вздремнув на стуле в коридоре, убедился, что не видит своего сына даже во сне. Так он понял, что его ребенок родился со странным дефектом — неспособностью запечатлеться в человеческой памяти.
Прошла неделя, Яков назвал сына Михаэлем, и открылась новая страшная тайна. Когда ребенок был введен обрезанием в завет праотца Авраама, он не заплакал. Яков испугался. Одно дело — стереться из закрытых глаз другого человека, и совсем иное — не ощущать боли: ведь те, кому неведомы муки и наказания, не способны понять, как устроен мир, и защититься от его ударов. А вместе со страхом пришло и огорчение. Ведь человек, который не чувствует боли, не сможет печь хлеб. Но сердце Якова было наполнено любовью и заботой, и поэтому в нем не оставалось места для сожаления и раскаяния.
Шли месяцы. Михаэль улыбался, переворачивался, пытался сесть. Иногда Яков видел, как он лежит на спине и поглаживает себе грудку и животик, старается подергать кожицу на губах или с силой щиплет один за другим кончики пальцев, как струны, но не мешал ему в этом, ибо знал, что ребенок хочет разбудить и оживить немоту своей плоти. Когда у Михаэля стали резаться зубы, Яков испугался было, что, не ощущая боли, он расщепит ими свой язык, но ничего такого не случилось. Михаэль сосал молоко тетки Дудуч и в должное время поднялся, встал и пошел, радуя сердца всех, кто его видел, но Яков знал, что все это счастье было попросту видимостью, притворством ребенка, который из любви к отцу хочет показать, что он такой же, как все прочие дети. И действительно, не раз случалось, что Михаэль падал и ушибался и, хотя не чувствовал при этом ни малейшей боли, все равно разражался слезами и бежал к отцу с криком: «Мне больно, мне больно!» В таких случаях Яков спрашивал, где болит, обнимал, гладил, целовал и проделывал все прочие положенные действия, ни на минуту не позволяя себе утешиться этим обманом. Про себя он знал, что его сын подражает другим детям и делает то, что делают все они, когда падают и ушибаются, в точности как мужчины имитируют ритуал ухаживания и словарь влюбленных. И в самом деле, кто же из нас не хотел бы уподобиться жестокому Орфею, наивному Альбину, грешному Григорию — всем тем великим любовникам, что на голову превосходят своих читателей и уж наверняка — придумавших их писателей? И кто из нас не следует теми же путями, что давным-давно проложены этими выдающимися учителями любви? Ведь мы так же глухи, как женихи Пенелопы, повторяем те же ошибки, что царь Соломон, столь же радостно поддаемся соблазну, как Энкиду, и в минуту желания совокупляемся все тем же излюбленным способом Гектора и Андромахи. И сказал ведь уже поэт Рильке, что два изобретения сделали мужчин лодырями и привели к вырождению рода человеческого, и первым было то, что какому-то лентяю-неандертальцу пришло в голову принести своей даме сердца букет цветов вместо убитого льва. Вторым же стало, разумеется, изобретение колеса, прародителя лени и всех прочих пороков, но это уже к нашему делу не относится.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Эсав - Меир Шалев», после закрытия браузера.