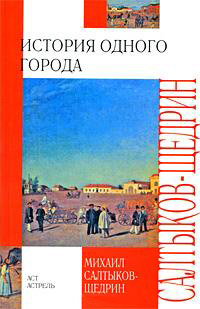Читать книгу "Мир как воля и представление - Артур Шопенгауэр"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Таким образом, наряду с постигаемой чувством иллюзорностью и ничтожностью форм представления, разобщающих индивиды между собою, самопознание собственной воли и степени ее напряжения – вот что не дает совести покоя. Жизнь воспроизводит образ эмпирического характера, оригиналом которого является характер умопостигаемый, и злодей содрогается от этого образа, – все равно, начертан ли он крупными штрихами, так что мир разделяет это содрогание, или же черты его так мелки, что только он и видит его, ибо только его одного он касается непосредственно. Прошлое было бы безразлично как простое явление и не могло бы угнетать совести, если бы характер не чувствовал себя свободным от всякого времени и неизменяемым им, пока он не отрицает себя самого. Поэтому давно совершенные деяния все еще тяготеют на совести. Молитва: «Не введи меня в искушение» означает: «Не дай мне видеть, кто я».
Сила, с которой злой утверждает жизнь и которая предстает ему в виде им же вызванного страдания других, служит мерилом того, как далеко от него прекращение и отрицание все той же воли, – это единственно возможное спасение от мира и его мучений. Он видит, насколько он принадлежит миру и как тесно привязан к нему: познанное страдание других не могло его тронуть, но он попадает во власть жизни и ощущаемого страдания. Еще неизвестно, сломит ли когда-нибудь это страдание и одолеет ли силу его воли.
Это раскрытие смысла и внутренней сущности зла, составляющее в качестве простого чувства (т. е. не как отчетливое, абстрактное познание) содержание угрызений совести, получит еще большую ясность и законченность, если мы таким же образом рассмотрим и добро как свойство человеческой воли и, наконец, полное отречение и святость, вытекающую из отречения, когда оно достигает высшей степени. Ибо противоположности всегда взаимно проясняют друг друга, и день одновременно открывает и себя самого, и ночь, как это прекрасно сказал Спиноза.
66
Мораль без обоснования, т. е. простое морализирование, не может иметь силы, так как она не мотивирует. Но мораль мотивирующая достигает силы, только воздействуя на себялюбие. Между тем то, что вытекает из себялюбия, лишено моральной ценности. Отсюда следует, что мораль и абстрактное познание вообще не в силах создать истинной добродетели: она должна вытекать из интуитивного познания, видящего в чужом индивиде то же существо, что и в собственном.
Ибо добродетель, хотя и вытекает из познания, но не из абстрактного, выражаемого словами. Если бы она проистекала из абстрактного познания, то ей можно было бы научить, и мы, излагая здесь абстрактно ее сущность и лежащее в ее основе познание, вместе с тем морально улучшали бы каждого, понимающего нас. Но это совсем не так. Напротив, лекциями по этике или моральными проповедями так же нельзя создать добродетельного человека, как все эстетики, начиная с аристотелевской, никогда не могли породить поэта. Ибо для подлинной внутренней сущности добродетели понятие бесплодно, как оно бесплодно и для искусства, и оно может быть полезно только в совершенно подчиненной роли, в качестве орудия для осуществления и сохранения того, что познано и решено другим путем. Velle non discitur[129]. На самом деле абстрактные догматы не имеют влияния на добродетель, т. е. на благие намерения: ложные догматы ей не мешают, а истинные едва ли помогают. И поистине было бы очень плохо, если бы главное в человеческой жизни – ее этическая, вечная ценность – зависело от чего-нибудь такого, что сильно подвержено случайности, каковы догматы, вероучения, философемы. Догматы имеют для нравственности только то значение, что человек, уже добродетельный благодаря познанию иного рода (мы вскоре его выясним), получает в них схему, формуляр, согласно которому он дает своему разуму большей частью только фиктивный отчет о своих неэгоистических поступках, но сущности их этот разум, т. е. он сам, не понимает: он приучил свой разум удовлетворяться этим отчетом.
Правда, догматы могут иметь сильное влияние на поведение, на внешнюю деятельность так же, как и привычка и пример (последний – оттого, что обыкновенный человек не доверяет своему суждению, слабость которого он сознает, а следует только собственному или чужому опыту); но самые помыслы от этого не меняются. [Это, сказала бы церковь, только opera operata, которые нисколько не помогают, если благодатью не будет дарована вера, ведущая к возрождению. Об этом дальше.] Всякое абстрактное знание дает только мотивы, а мотивы, как показано выше, могут изменять только направление воли, а не ее самое. Всякое же сообщаемое знание может действовать на волю только в качестве мотива, и как бы ни склоняли догматы волю, все-таки то, чего человек хочет истинно и вообще, всегда остается тем же самым, новые мысли появляются у него лишь о путях, как этого достигнуть, и воображаемые мотивы руководят им наравне с действительными. Поэтому, например, по отношению к этическому достоинству человека безразлично, делает ли он богатые дары неимущим в твердом убеждении, что будущая жизнь воздаст ему за это десятерицей, или употребляет ту же сумму на улучшение своего поместья, которое будет приносить ему хотя и поздний, но тем вернейший и выгоднейший доход; и убийцей, наравне с бандитом, убивающим за плату, является и тот, кто благочестиво возводит на костер еретика, и, в зависимости от внутренних побуждений, даже и тот, кто в Святой земле умерщвляет турок, если он поступает так, собственно, потому, что надеется приобрести себе этим место в раю. Ибо эти люди заботятся только о себе, о своем эгоизме, так же как и бандит, от которого они отличаются только абсурдностью средств. Как уже сказано, извне можно подойти к воле только с помощью мотивов, а они меняют лишь способ проявления воли, но никогда ее самое. Velle non discitur.
В добрых делах, свершитель которых ссылается на догматы, надо всегда различать, действительно ли они служат здесь мотивом, или же, как я сказал выше, они представляют собой лишь фиктивный отчет, каким этот человек хочет удовлетворить свой собственный разум, – отчет о добром деле, которое проистекает совсем из другого источника, которое он совершает потому, что он добр, но не может объяснить его надлежащим образом, не будучи философом, и все-таки хотел бы как-то осмыслить его. Однако найти это различие очень трудно, потому что оно сокрыто в глубине души. Поэтому мы почти никогда не можем сделать правильной моральной оценки поведения других и очень редко можем оценить свое собственное.
Поступки и нравы отдельной личности и народа могут весьма модифицироваться догматами, примером и привычками. Но сами по себе все поступки (opera operata) – это лишь пустые образы, и только помыслы, ведущие к ним, сообщают им моральное значение. Последнее же может быть совершенно тождественным при весьма различных внешних проявлениях. При одинаковой степени злобы один может умереть на плахе, другой – спокойно в лоне своей семьи. Одна и та же степень злобы может выражаться у одного народа в грубых чертах, в убийстве и каннибализме; у другого же, напротив, она сказывается en miniature, тонко и скрыто, – в придворных интригах, притеснениях и всякого рода коварствах: сущность остается та же. Представим себе, что совершенное государство или даже безусловно и твердо исповедуемый догмат о наградах и наказаниях в загробной жизни предотвратит любое преступление: в политическом отношении это дало бы много, в моральном – совершенно ничего; и только был бы задержан процесс, каким воля отображается в жизни.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Мир как воля и представление - Артур Шопенгауэр», после закрытия браузера.