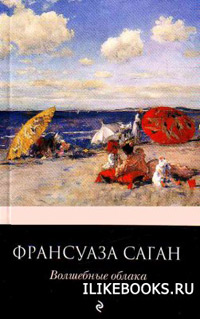Читать книгу "Ключ к полям - Ульяна Гамаюн"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Так вот, о рассказе: хоть убейте, не помню, о чем он был. Восторг и упоение, с каким я его писал и затем наедине с собой перечитывал, загородили огненную ткань повествования, как печная заслонка пламенеющие угли. И то сентябрьское утро, когда я с бесценной ношей в портфеле бежал, распугивая припорошенных листьями котов, в школу, стало для меня коротким просверком чудесной синевы в восьмилетнем блуждании под унылыми тучами детства. Ни смерть, ни двойка по математике меня не страшили; потерять волшебную тетрадку с рассказом – вот единственное, чего я боялся и чего желал больше всего на свете уже несколько часов спустя.
Когда Гоген утверждает, что его собственные картины кажутся ему отвратительными, я верю ему, как никто другой: ужас и омерзение, охватившие меня, когда учительница, приспустив очки, проворными пальцами схватила детскую тетрадку и на одном дыхании исполнила перед всем классом творение запоздалого Моцарта, самое лучшее тому подтверждение. То, что в хрустальной раковине вдохновения казалось жемчужиной, на деле обернулось перламутровой мишурой. Это было бездарно, невозможно, нестерпимо. Белый как пергамент, с большими буряковыми ушами, я тихо стонал и сползал под парту. Всему конец, решил я, писать не буду больше никогда. Провалявшись два дня с температурой, безмолвный и вспотевший, лицом к стенке, я на третий потребовал у родителей перевести меня в другую школу или оставить одного в лесу, как того мальчика из рассказа, что замерз под заснеженной елью (я был большим романтиком). Вид у меня был серьезный, губы выпячены, уши по-прежнему горели огнем. Родители, переглянувшись, отправили меня в постель, наплевав на ультиматум и алые уши. Злобно мутузя ни в чем не повинную подушку, я понял: слова меня предали. Это было мое первое в жизни настоящее горе.
Мне было восемь, девчачьи косички меня не трогали, Моцарт с Украинкой натянули мне нос, а слова сыграли со мной подлую шутку, и если существует у моей истории начало – болотце, что стало истоком той мутноватой речушки, в которой плещутся сейчас жирненькие уточки, то искать его стоит именно здесь. Я банален: у меня, как и многих других, вначале было слово. Ну и предательство, само собой. Слово и предательство – вот вам архетип всех на свете причин всего на свете, истрепанная завязка древнейшего в мире сюжета.
Мне было восемь, но кое-что я уже понимал: если царевна превратилась в лягушку однажды, ей непременно захочется повторить процедуру. Я стал осторожнее; сжег тетрадку с рассказом, как лягушачью шкурку, но писать так и не бросил – не смог. Кто же знал, что эта самая жаба, затаившись, через тринадцать лет выскочит вновь? Глупая филантропия – жечь шкурку вместо царевны.
Скажем прямо, детство мое малоинтересно, и я прикоснулся к этой ороговевшей болячке только из уважения к недоумевающему читателю (не тому, что снова хихикает за моей спиной). Я был единственным ребенком в семье, к тому же мальчиком (что, говорят, особенно ценится в некоторых патриархальных семействах), но мои родители и многочисленные родственники, будучи людьми оригинальными и к законам общества глухими, проигнорировали как первое, так и второе, и всеобщим любимчиком я никогда не был. Меня вообще редко замечали. Отец грезил о тонких щиколотках и монументальных бюстах, мать – о загубленной карьере киноактрисы, а все остальные с интересом наблюдали за происходящим и делали ставки. Бабушка была единственной моей семьей, поэтому, когда мать после шести неудачных попыток утопиться в местном озере на седьмой раз все-таки добилась своего, а отец в день похорон сбежал с ее грудастой кузиной, ничего в моем детском (точнее, тинэйджерском – мне было тринадцать) мире не рухнуло. Даже наоборот: мы переехали в небольшую бабушкину квартирку в центре города, никто больше не кричал и не заламывал рук, все отношения с подловатой родней, сочувствовавшей отцу, бабушка прекратила и, если бы не я, никогда бы не стала принимать трусливых денег, которые «любящий» папочка аккуратно посылал раз в месяц из своего Севастополя (впрочем, на письма его она ни разу не ответила, а когда он однажды под Новый год осмелился позвонить, бросила трубку с такой силой, что телефон разлетелся вдребезги не только с нашей, но и с севастопольской стороны провода).
Я, может быть, кажусь вам маленьким толстокожим монстром – это ничего, это бывает, когда люди говорят правду. И раз уж я начал эту автоисповедь, то, следуя милой традиции мемуаристов, выложу все до последнего комка грязи, не стесняясь даже собственной подловатой покорности, с которой принимал севастопольские вспомоществования.
Да, я ненавидел отца, не любил матери и боготворил бабушку. Да, я был скорее удивлен, чем расстроен, когда настырная соседка притащила меня на грязный пляж, где у ног возбужденной толпы (ее первые и последние зрители), с камешком в ногах и водорослями вместо маргариток, лежала смутно знакомая груда тряпья. Какой-то дурак успел закрыть ей лицо ее же собственной, лавандовой в белый цветочек ночной сорочкой, и все они – дети, старики, приблудные собаки – молча пялились на ее голое, мягкое, бледно-голубое тело. И если я ревел и кусался, пока меня не оттащили подальше двое удивленных и пьяненьких мужичков, то отнюдь не от горя и прочей общепринятой дребедени, а от горячей и густой, как смола, злобы и невыносимого стыда. Поправить сорочку мне так и не дали, и это прозрачное, с лавандовым чехлом на голове тело преследовало меня с мстительной настойчивостью Гамлета-отца, пока мы не переехали под зеленый, исцеляющий абажур бабушкиной квартиры.
Прекрасно помню последний день в старом доме: август, жара, чемоданы собраны, мебель в белых чехлах, ставни закрыты, пауки потирают ладошки в предвкушении предстоящего праздника. Принято говорить о первых, небесно-кучерявых воспоминаниях детства (погремушки, сладкое молоко, снег за окном, колыбель качается, etc.), у меня есть только последнее – пока бабушка за воротами распоряжается погрузкой нашего нехитрого багажа, я бегу за дом, дергаю ставни в родительскую комнату и, подобрав камень повнушительнее, швыряю его в ненавистное окно. Звон стекла – самый радостный звук в мире. Орут воробьи, взвивается соседский Тузик-Каштанка, сосед с ложкой и початой луковицей выскакивает во двор, но поздно, поздно, бабушка зовет из-за калитки, такси трогается, пыль, коты на крышах, занавес.
Ах да, и последнее на эту метафизическую тему: никаких кошек я не убивал, и уж тем более не развешивал их гирляндами на соседских заборах (они бы мне этого не спустили – ни соседи, ни кошки).
Бабушкина двухкомнатная квартира была забита зеркалами и книгами, и если первое меня скорее смущало, то второе стало смыслом существования. Меня перевели в новую школу, местная детвора с любопытством поглядывала на вновь прибывшего, во дворе играли в казаки-разбойники, гоняли мяч, но мое сознание давно уже не улавливало таинственных волн детства. Я с остервенением набросился на книги, как маленький жестокий книжный червь. Поначалу это было просто упрямство, подгоняемое честолюбивой затеей командовать словом, то есть тем, что – глубокий вздох, разбег и полет, – а значит, недоступно бескрылому человеку по определению. Глотая книжку за книжкой, я чувствовал только глухую злобу и беспомощность. Но со временем, по шажочку, когда крошки с барского стола накопились в таком количестве, что я мог уже ощутить вкус румяной горбушки, в разрывах ненависти и обиды стали мелькать уважение и непонятная радость.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Ключ к полям - Ульяна Гамаюн», после закрытия браузера.