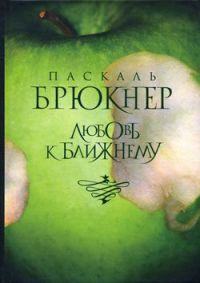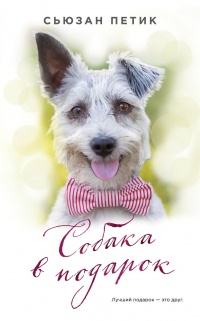Читать книгу "О лебединых крыльях, котах и чудесах - Эйлин О'Коннор"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Не знаю, кому она адресовала свое письмо, эта сломанная балерина с вечно прямой, словно намертво приколоченной к кресту спиной. Обращения там не было. Но было «здоровья Саше», долгие годы жизни кому-то, и чтобы им выдали новую квартиру, а еще чтобы не сгорела дача.
Вот эта дача меня сильно занимала. Странное какое-то пожелание подруге или родственнику, думала я. День за днем старуха продолжала свое дело: здоровья Саше, пускай выдадут квартиру и дача пусть останется цела… Потом неожиданно появилось что-то о пианино, а чуть позже на оставшееся свободное место влез совершенно безумный «продмаг».
Старуха писала.
Слов становилось все больше. Уже нельзя было прочесть новые, а елочка с обратной стороны украсилась выпуклыми гирляндами продавленных строчек. Старухе это не мешало. Она упорно нашептывала в ямку свои пожелания, не замечая, что они давно переливаются через край, впитываются без остатка в щедро удобренную чернилами землю.
И однажды меня осенило. Я вдруг поняла, отчего на открытке нет адресата, и почему именно елка с завитками вьюги, и при чем здесь дача.
Старуха писала Деду Морозу. Как маленький ребенок, высказывала она все, что накопилось за долгий, длиннее года, прошедший день. Неизменный скелет ее просьб о Саше, квартире и даче то обрастал плотью и просительно щерился черно-белыми клавишами пианино, то снова истаивал до костей, и над ним в толще фиолетовой воды плыли запятые и восклицательные знаки.
Я смотрела на нее и понимала, что делаю то же самое. Без этой детской магии, но и я пишу одно нескончаемое письмо. Слова, поначалу разборчивые, давно уже слились в огромное чернильное пятно, и, кажется, адресат не в силах будет ничего прочесть.
Возможно, мне нужно было вовремя остановиться?
Попросить один раз, может, два. Но не двадцать и не сто. Не засорять эфир белым шумом, сократить свои желания до простой дроби, а не возводить в степень бесконечным навязчивым повторением.
Может быть, тогда меня кто-нибудь услышал бы?
К концу второго месяца открытка превратилась в труху. В изъеденный шариковой ручкой бумажный лоскуток. Я купила на почте новую, тоже с елкой, но положить на тумбочку не успела: однажды старуху увезли в другое отделение, и больше я ее не видела.
Старая открытка так и осталась на тумбочке. У меня в руках она развалилась на две половинки, но я все равно бросила ее в почтовый ящик: без всяких мыслей, просто потому, что нужно было ее куда-то пристроить. А таскать чужой мусор в сумке я не люблю.
Но с тех пор я вот думаю иногда… Должна же она была дойти, правда? Пусть не сразу. Сначала попадет к Деду Морозу, тот глянет возраст отправителя, шлепнет штамп «не рассмотрено» и передаст вверх по инстанции, Богу.
Тот возьмет открытку, в которую несчастный больной человек до безумия долго вписывал свою жизнь. И вся эта слежавшаяся сырая глыба бесконечных просьб вдруг расслоится на легкие, как перышки, ясные желания: чтобы мама с папой были счастливы, чтобы Саша был здоров, чтобы мы вместе приезжали на дачу и больше не было того страшного пожара, после которого слег дедушка. Чтобы Катенька хорошо училась и ее не обижали в школе, как меня.
Пусть никого не обижают.
Забери меня отсюда, дедушка, ты уже всех моих забрал, а я все тут, одна да одна.
А когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех.
Бог задумчиво почешет подбородок, кивнет, и юная девочка в белой пачке закружится под вальс, который играет на пианино ее мама, и на полке будут конфеты, те самые, из продмага, в золотой обертке, и елка будет сиять, и вьюга будет петь, но совсем нестрашно, потому что больше не случится ничего страшного, ибо все уже давно случилось и прошло.
А все, что осталось, – только старая новогодняя открытка, на которой никогда не будет написано ни единого слова.
Я все думаю о мотивах поступков. Разных. «Живой Журнал» этому очень способствует: ты читаешь то, что люди пишут о причинах своих действий, а фоном к их рассказам идет восприятие этих действий окружающими.
С детьми особенно сложно.
Восьмилетний мальчик, сын моих приятелей, возвращаясь из школы, вдруг пытается обломать ветки барбариса, растущего у подъезда. Его стыдит сначала консьержка, потом бабушка, которой неловко перед консьержкой за поведение внука. На другой день повторяется то же самое. На третий его проводят подальше от этого несчастного барбариса, а он все равно вырывает руку, бежит к кусту и злобно дергает ветки.
В конце концов историю доносят до мамы. Бабушка жалуется, что невозможно управиться с мальчишкой. Что он агрессивен, неуправляем. Предупреждает, что будут проблемы в школе: сегодня он срывает злость на безобидном кусте, а завтра стукнет какого-нибудь малыша.
Мама идет к мальчику. Гладит его по голове. Мальчик, конечно, ревет: он слишком долго был для бабушки негодяем. И сквозь слезы и сопли с трудом объясняет: там гуляет собака по утрам, большая белая собака. Она проходит по узкой заасфальтированной дорожке между машинами и кустарником и задевает боком об ветки. Собаке больно. Кустарник царапает собаку, потому что у нее мало шерсти. А ее хозяин ничего не замечает. Он и кормит ее плохо: она худая, как забор, и еще у нее уши пострижены.
Утром мама смотрит в окно. Действительно, собака: обычная дворняга. Никакого вреда бедный барбарис ему, конечно же, не причиняет. Но мальчик летом сам оцарапался о кусты, и ему кажется, что собаке тоже больно.
Почему он не пытался объяснить бабушке? «Не знаю. Она бы не поняла».
Я слушаю мою подругу и думаю, что надо бы постараться не стать такой бабушкой.
Потом думаю, что от моих усилий ничего не зависит.
Но ладно – дети. У меня есть знакомая семья: мама, папа, пятнадцатилетняя дочь. В середине января я встречаю папу с дочерью в парке. Спрашиваю шутливо, где они забыли маму. Папа так же шутливо отвечает, что их выгнали из дому: мама разбирает елку, а она любит делать это в одиночестве.
«И выносит елку тоже сама, – поддерживает дочь (у нее папины снисходительные интонации). – Ветки ей обкусывает секатором. Садистка!» Оба посмеиваются: немного свысока, но беззлобно.
Месяц спустя мы сидим с их мамой в кафе. Заговариваем о Новом годе. Я показываю фотографии наших новогодних игрушек. И вдруг она говорит: «Знаешь, а я каждый год реву, когда убираю елку. Ничего не могу с собой поделать. Снимаю игрушки, складываю в коробку – и плачу».
Я смотрю на нее, забыв про дурацкие фотографии.
Она плачет каждый год, когда настает пора убирать елку. Она выгоняет мужа и дочь, чтобы они не видели, как она ревет.
А они думают, что ей нравится убирать елку в одиночестве.
Когда мне было семнадцать, папа поехал в Америку и привез мне оттуда свитер.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «О лебединых крыльях, котах и чудесах - Эйлин О'Коннор», после закрытия браузера.