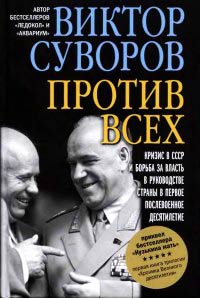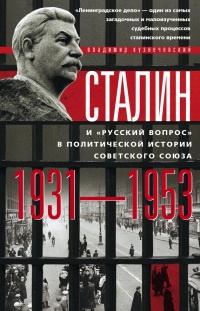Читать книгу "Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости. 1921-1941 годы - Майкл Дэвид-Фокс"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Очень важно иметь в виду то целое, в которое складываются части. В данной работе доказывается, что Советский Союз создал беспрецедентную систему приема иностранных гостей и формирования имиджа страны за рубежом — систему, сложившуюся в особых условиях начала 1920-х годов. Между внешними и внутренними устремлениями и задачами происходило постоянное взаимодействие. Новый режим побуждался к действию не только идеологическим универсализмом. Изолированное и дипломатически слабое положение революционного государства превратило сочувствие со стороны западных культурных и интеллектуальных элит в один из немногих козырей, которыми могли похвастаться большевики, и, конечно же, изобретение новых способов по добыванию этих козырей стало одним из важных приоритетов. Более того, рано состоявшийся разрыв между традиционной дипломатией и подготовкой мировой революции гарантировал, что международные культурные инициативы никогда не будут полностью или даже в основном подотчетны НКИД.
Таким образом, советской культурной дипломатии может быть дано определение феномена, обладавшего рядом отличительных черт. Культурные связи, как и подобало марксистско-ленинскому режиму, понимались в классовых терминах — в виде взаимоотношений с иностранной интеллигенцией, включавшей в себя в том числе ученых и технических специалистов.
Сфера культуры тесно связывалась с интеллигенцией, или, как ее нередко называли, «западной интеллигенцией». Точно так же отношения с иностранными коммунистами и визиты иностранных рабочих делегаций попадали в разные категории. В то же время новаторские, накладывавшиеся друг на друга инициативы режима по привлечению международной аудитории выходили далеко за рамки культурных и научных обменов, выставок и т.п., поскольку были тесно связаны с пропагандой и новейшими способами влияния на общественное мнение других стран. Также они оказались гораздо шире, чем дипломатическая сфера, поскольку особая важность иностранных гостей и экскурсионных туров по земле победившего социализма придавала всему происходившему элемент особой внутренней значимости. В этом смысле советская культурная дипломатия была шире и культуры, и дипломатии. В данной работе термином «культурная дипломатия» обозначается целый комплекс задач по воздействию на иностранцев — классифицированных как представители интеллигенции — и на территории СССР, и за рубежом[2].
Однако в иных аспектах Советский Союз вполне вписывается в широкую компаративную рамку. В других странах культурная дипломатия также осуществлялась в соответствии с приоритетами политической системы и общества, как и с международными планами политических лидеров. Упор французов на свой язык и высокую культуру, немецкая поглощенность научными исследованиями и положением этнических немцев вне Германии, важность частной благотворительности и корпораций, работающих в «национальных интересах» США, — все это различные варианты смешения международной политики и внутриполитического развития. То же отразилось и в советской озабоченности пропагандой, политико-идеологическими манипуляциями и научно-технологическим развитием.
Рассматривая уже упомянутую теорию рессентимента Гринфельд на фоне панорамы XIX–XX веков, следует отметить, что если эта теория дает лишь частичное объяснение той или иной позиции относительно Запада в дореволюционной России, то для понимания аналогичных феноменов в советской истории она может предложить еще меньше. К примеру, эта теория не объясняет той русской уверенности в превосходстве своей политической и социальной системы, которая была особенно устойчивой в эпоху после победы в Отечественной войне 1812 года. Более того, рессентимент теряет свою значимость при учете культурных эффектов сильно возросшей интеграции России в европейские дела в конце XIX века{46}. Феномен российской уверенности в себе в имперский период можно сравнить с убежденностью в настоящем и будущем превосходстве, которую формировала советская идеология. В частности, Великая депрессия придала некоторую достоверность пропагандистским декларациям о скорой гибели капитализма. Скажем больше: глубина и сложность взаимоотношений России с западными государствами не могут быть сведены только к социально-психологическому рефлексу{47}.
В конечном счете теория рессентимента позволяет понять длинную траекторию и защитную фронтальность, присущие российскому стремлению преодолеть неполноценность перед Европой, но не вдается в объяснение длительной истории взаимоотношений, обусловленной практиками и институтами. Работы же Рибера, напротив, привлекли внимание к устойчивому культурному своеобразию России, отличающему ее от окружающего мира, и к внутренним спорам по поводу вектора развития, которые не стихали даже во времена сравнительной интеграции. Движение к преодолению этой устойчивой «культурной маргинальности» стало еще более неотложной и сложной задачей вследствие того — оформившегося в раннее Новое время — канонического подхода европейцев к России, который представлял ее в корне неевропейской, «грубой и варварской» страной{48}.
На первый взгляд, глубоко укорененный западный дискурс российского варварства и деспотизма служит как раз контрастным фоном для взаимодействия СССР с Западом в межвоенный период — взаимодействия, ярко отмеченного излияниями советофилии. Но и здесь мы видим картину определенной преемственности посреди решающих исторических перемен. Нарративы варварства и отсталости оказались на редкость долговечными, и причиной тому была отчасти традиция перечитывания наиболее выдающихся травелогов раннего Нового времени и подражания им. Это вело к тиражированию идей, которые затем, уже в XIX веке, были сцеплены с представлением о разломе между Западом и Востоком{49}.[3] Также со времен самых ранних европейских описаний России существовала и противоположная тенденция — восхваления Московии, использовавшаяся иностранными наблюдателями для критики собственных обществ (по контрасту с чужой страной){50}. Россия вследствие радикальной вестернизации оказалась одновременно и совершенно иной, и довольно-таки знакомой — Европой, но не совсем Европой. По этой причине «изобретение Восточной Европы [было] неотделимо от изобретения Европы Западной». Иными словами, Россия — изображаемая ли страной еще исправимой или вовсе варварской — была в фокусе внимания в процессе рождения современной концепции цивилизации во Франции XVIII века{51}. В эпоху же империализма и индустриального господства Европы воззрение на незападные общества как на образцы для подражания, и без того представленное меньшим числом западных описаний, еще более ослабло{52}. На фоне этих давних пренебрежительных суждений западный энтузиазм межвоенного периода относительно советского эксперимента фактически может быть осмыслен как нечто совершенно новое в истории. Это был один из первых случаев, когда незападная или отчасти незападная страна в такой степени представала моделью будущего. С точки зрения Фюре, подобной инверсии в положении и образе какой бы то ни было страны не бывало никогда — до тех пор, пока революция неожиданно не превратила Россию из «отсталых» задворков в «путеводную звезду»{53}.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости. 1921-1941 годы - Майкл Дэвид-Фокс», после закрытия браузера.