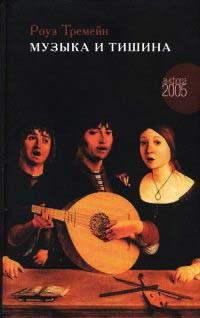Читать книгу "Дальше - шум. Слушая XX век - Алекс Росс"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Другие визитеры были более дружелюбны, очарованные воспоминаниями Штрауса об Америке. Когда рядовой Расселл Кампителли упомянул, что он родом из Покипси, Штраус кивнул и сказал: “Ах да, это на Гудзоне”.
Среди солдат были опытные музыканты. Однажды оперативный сотрудник разведки Джон де Лэнси возник на пороге дома Штрауса, но не для того, чтобы допросить его, а чтобы выразить восхищение работой композитора с деревянными духовыми инструментами: до войны он играл на гобое в Питтсбургском симфоническом оркестре. Де Лэнси храбро спросил Штрауса, не собирается ли тот написать Концерт для гобоя. “Нет”, – ответил композитор. Спустя несколько месяцев изумленный де Лэнси прочел в газете, что Штраус действительно написал Концерт для гобоя по просьбе американского солдата. Это была музыка неожиданно легкая, напоминающая быстрые узорные вещи в стиле Мендельсона, которые композитор писал в юности, до того, как подпал под влияние Вагнера. Встречи Штрауса с американцами, кажется, приободряли композитора. На многих поздних фотографиях у него мрачное выражение лица, но на фотографии, сделанной де Лэнси, его глаза сияют, а лицо спокойно.
Долгая и странная карьера Штрауса завершилась “Четырьмя последними песнями” 1948 года. Im Abendrot (“На закате”) своим искусством смотреть смерти в лицо больше похожа на Малера, чем сам Малер. Текст рисует пожилую пару, уходящую в сумерки – “Мы шли через горе и радость, рука в руке”, – и ми-бемоль мажор раскрывает над ними светящуюся арку. Фридрих Ницше мог бы описать эту величайшую из песен Штрауса таким образом: “Мастеров первого порядка можно узнать по следующим характеристикам: во всех вещах, больших и малых, они знают с полной уверенностью, как найти конец, будь то конец мелодии или мысли, будь это пятый акт трагедии или конец политической акции. Лучшие из тех, кто занимает второе место, становятся к концу нетерпеливы. Они не бросаются в море с гордым и сдержанным спокойствием, как делают это, например, горы рядом с Портофино, где Генуэзский залив исполняет свою мелодию до конца”.
Штраус умер 8 сентября 1949 года. Спустя три недели OMGUS было распущено, а американское междувластие в немецкой музыкальной истории завершилось.
“Все начинается с тайны и заканчивается войной”, – писал французский поэт Шарль Пеги в 1910 году. Мортон Фелдман – модернист-диссидент, любивший Сибелиуса, – применил эту сентенцию к музыке XX века, описывая, как грандиозные идеи с течением времени превращаются в обыденность, в материалы борьбы за власть для идеологов и педантов. “К несчастью, для большинства людей, занимающихся искусством, идеи становятся наркотиком, – сказал Фелдман. – Они не дают никакой гарантии, что ты останешься самим собой”.
Век начался с магии революции, с ошеломляющих гармоний и потрясающих основы ритмов Стравинского и Шенберга. Процесс политизации начался уже в 1920-е, когда композиторы соревновались за первое место среди меняющихся направлений и обвиняли друг друга в причастности к регрессивным тенденциям. В 1930-е и 1940-е романтическая традиция была фактически захвачена тоталитарным государством. Но ничто не могло сравниться с тем, что произошло, когда Вторая мировая война закончилась, а “холодная война” началась. Музыка взорвалась революционной свистопляской, контреволюцией, теоретическими изысканиями, полемикой союзов и партийных расколов. Язык современной музыки менялся практически каждый год: додекафония сдалась перед “тотальным сериализмом”, который отступил перед алеаторикой, которая уступила место музыке свободно плывущих тембров, сонористике, потом пришли неодадаистские хэппенинги и коллажи и т. д. Ворвался весь ворох информации позднекапиталистического общества, от чистейших звуков до чистейшей тишины, от комбинаторной теории множеств до бибопа, как будто не оставалось больше никакого барьера между искусством и реальностью. Странные партнерства стали повальным увлечением. Следуя по стопам OMGUS, ЦРУ порой финансировало фестивали, на которых исполняли гиперсложную авангардную музыку. Политики “холодной войны”, такие как Джон Ф. Кеннеди, обещали золотой век свободомыслящему искусству, и композиторы-додекафонисты в американских университетах косвенно оказались бенефициарами.
Вторая мировая оказалась войной, которая на самом деле никогда не заканчивалась. Силы союзников оставались на военном положении, а знакомство с ядерным оружием и обнаружение концлагерей привело к мрачным настроениям во всем мире. Риторика ранней “холодной войны” просочилась в музыкальные дискуссии, как и во все остальное. Композиторы эксплуатировали предоставленные возможности, захватывали новые территории, нейтрализовывали оппозицию, наступали, отступали, переходили на сторону врага. Когда Стравинский шокировал коллег, забросив неоклассицизм ради додекафонии, Леонард Бернстайн сказал: “Это было похоже на переход забравшего с собой все свои верные полки генерала на сторону врага”.
Доминирующей эстетикой и в европейской, и в американской музыке была эстетика диссонанса, насыщенности, сложности, многокомпонентности. Американский композитор Эллиот Картер объяснил, почему он отказался от популизма в стиле Копланда и неоклассицизма в духе Стравинского: “До окончания Второй мировой войны мне стало ясно, частично в результате перечитывания Фрейда и других, а частично из-за размышлений о психоанализе, что мы живем в мире, где физическое и интеллектуальное насилие всегда будут проблемой, и что вся идея человеческой природы, лежащая в основе неоклассицистской эстетики, заключается в том, чтобы спрятать подальше вещи, с которыми, как мне кажется, мы должны обходиться не так уклончиво и не так покорно”.
Самым солидным защитником идеи того, что нельзя ничего прятать, был Теодор Адорно – старый ученик Берга, заклятый враг Сибелиуса, музыкальный помощник Томаса Манна при написании “Доктора Фаустуса”. После войны Адорно приобрел устрашающую репутацию постмарксистского философа и глубокого музыкального аналитика. Он исследовал политические аспекты стиля и использовал все имевшиеся в его распоряжении средства, чтобы унизить музыку, которую считал деградирующей. Основной задачей его книги 1949 года “Философия новой музыки” было уничтожение неоклассицизма Стравинского: сам факт сохранения тональности в современную эпоху, по его словам, выдавал симптомы фашистской личности. По той же причине он осудил Хиндемита, утверждая, что “Новая вещественность” (Neue Sachlichkeit) эквивалентна нацистскому кичу. В своей книге Minima Moralia Адорно высмеял американских композиторов-популистов, заявив, что “Портрет Линкольна” Копланда можно найти на полке с граммофонными пластинками любого сталиниста-интеллектуала.
Единственным возможным путем для Адорно был путь, указанный Шенбергом в начале века. Более того, теперь музыка понесет свой священный факел в бездны, куда не решился заглянуть даже Шенберг. Все знакомые звуки, все реликты условностей нужно уничтожить. Ключевой отрывок из книги “Философия новой музыки” звучал так:
[Новая музыка] взяла на себя всю темноту и виновность мира. Все свое счастье она видит в распознавании несчастья; вся ее красота – в том, чтобы отказывать самой себе в мнимости прекрасного. Никто не хочет иметь с ней дело, как индивиды, так и коллективы. Она затихает, не будучи услышанной и без отзвуков. Если вокруг услышанной музыки время срастается в лучащийся кристалл, то музыка неуслышанная падает в пустое время подобно пуле на излете. В ответ на свой самый последний опыт – ежечасно переживая давление со стороны музыки механической – новая музыка спонтанно держит курс на абсолютное забвение самой себя. Это настоящая бутылочная почта[76].
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Дальше - шум. Слушая XX век - Алекс Росс», после закрытия браузера.