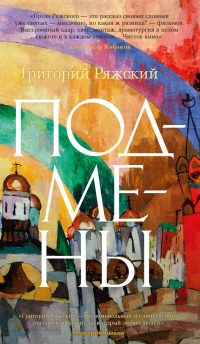Читать книгу "Колония нескучного режима - Григорий Ряжский"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Через пару лет, уже в Лондоне, Ницца Иконникова-Хоффман напишет превосходное эссе «Фонтан после дурки, или Любовь без триседила», опередив своей публикацией так и не осуществлённую мечту приёмной матери, Присциллы Иконниковой-Харпер, сделать статью для «Обсервер» о культурном достоянии, о знаменитом доме-стакане, построенном великим архитектором-конструктивистом Константином Мельниковым в Москве, в Кривоарбатском переулке, по соседству со свекровью, Таисией Леонтьевной Иконниковой.
Таисия Леонтьевна умерла в 80-м, когда её любимому внуку Ванечке исполнилось одиннадцать лет. До последнего дня она отличалась бодростью духа и обладала вполне крепким здоровьем. А если что и побаливало, то терпела и не ставила в известность никого из родных. Тайно подлечивалась, потихоньку, чтобы не обременять никого лишней заботой, — так, на всякий случай, чтобы не брали в голову и как можно чаще давали внука. И потому время, прожитое с ним, по удовольствию и радости взаимного общения напоминало годы, проведённые с Ниццей, когда девочку-подростка привозили к бабушке, на зимние каникулы и выходные дни, в большую и красивую Москву, и дальше начинались весёлые и познавательные походы по культурным, историческим и прочим занимательным местам города, который с каждым днём становился ей всё больше и больше родным.
Как-то незадолго до смерти Таисии Леонтьевны Ваня спросил её, когда они вернулись с катка:
— Бабуль, а Бог кто такой? Он где живёт? На небе? Почему он тогда на землю не падает?
— Потому что он легче воздуха, — не растерялась Таисия Леонтьевна. — И потому что он… вне нашего мира, он за его пределами, он неземной. Он как бы снаружи от нас, он окружает нас со всех сторон, и ему некуда падать, Ванечка. И неоткуда.
— А звёзды? — не понял внук. — Они тоже поэтому не падают на землю, что легче воздуха?
— Звёзды тоже сделал Бог, — объяснила бабушка. — И звёзды, и небо, и самого человека. Папу, маму и нас с тобой. И ещё запомни, маленький, Бог живёт внутри нас, внутри каждого человека. И на небе живёт, и в самом человеке. Бог везде. И Бог есть совесть. И добро. И ещё называется любовь. Вот мы же с тобой любим друг друга, правда?
— Правда, — с готовностью подтвердил внук, — я тебя очень люблю, бабуля.
— И я тебя люблю, родной мой. И Бог нас с тобой любит, но только он об этом не кричит. Он говорит, верьте в меня, люди, делайте добрые дела, помогайте ближнему своему, не совершайте подлости, живите по совести. И вам воздастся… — Она на какой-то миг прикрыла веки, соотнеся свои слова с тем, каким именно образом думала об этом сама и понятны ли будут внуку её слова. Но тот слушал внимательно, всем своим видом показывая, что понимает и хочет слушать дальше. Неожиданно спросил:
— Бабуль, а почему, если он меня любит, то не сделал так, чтобы я не лизнул железные качели? Помнишь? Ещё мороз был такой сильнющий, в прошлую зиму. А у меня потом ещё язык больно щипало, когда его от железяки отдирали.
Таисия Леонтьевна подумала и ответила:
— Просто Бог хочет, чтобы ты научился всему самостоятельно. И он сделал так, чтобы ты постепенно приобретал опыт: что можно делать, а чего лучше избегать. И немножечко тебя ущипнул за язычок, как будто предупредил, что это опасно. Чтобы ты понял и в следующий раз был внимательней. Ведь сейчас тебе не больно, правда? — Внук согласно мотнул головой. — Вот видишь, значит, он тебя любит и бережёт.
— А про Бога сказки есть? Для детей. Я хочу, чтобы ты мне их почитала. Про царя Гвидона читала, а про Бога не читала.
— Бог обязательно есть в каждой сказке. И особенно у Пушкина, которого мы с тобой уже читали. И даже в его несказочных стихах, таких как «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя…». Помнишь? Или… «Румяной зарёю покрылся восток…» — и там Бог тоже. Потому что Бог везде, где сокрыт талант. И где есть радость его постижения. Но когда ты подрастёшь, то прочтёшь ещё две книги, уже самостоятельно, и это самые интересные книги на свете. И самые важные. Они называются «Библия» и «Евангелие». Когда меня Бог заберёт к себе, они достанутся тебе. Вот они, — она выдвинула ящик комода и достала из-под стопки постельного белья две толстые книги. Но в руки не дала, а снова положила под бельё и задвинула ящик.
— А папа с мамой их читали, эти книжки? — с явным интересом спросил мальчик.
Бабушка задумчиво пожала плечами. Вопрос застал её врасплох:
— Папа… он всегда был занят, с самого детства. А потом он увлёкся горшками из глины, начал лепить… и сделался скульптором. Так что в твоём папе божественное начало было всегда, и поэтому он лепит образ человека, воспроизводит его в камне, в глине, в металле. Пытается сделать прекрасным то, что, быть может, не всегда столь совершенно. А это значит, что Бог в нём обязательно живет, и он об этом тоже знает. Я хочу, чтобы и ты когда-нибудь почувствовал это в себе, Ванечка.
— А мама?
— Не знаю. Но думаю, что читала. В Англии, где она родилась, все люди эти книги читают. Ещё до того, как стать взрослыми. И мама, и дедушка Джон, и тётя Триша.
— А баба Параша?
— Баба Параша большую часть жизни в неграмотности прожила, потому что тогда много людей совсем читать и писать не умели. Но она очень добрый человек и очень справедливый. И это значит, у нее в сердце тоже Бог живёт. Ведь, живёт, правда?
— Живёт, — серьёзно ответил Ваня, — у бабы Параши очень даже живёт, она хорошая, и я тоже её люблю. Почти как тебя. И Норку тоже.
Хоронили Таисию Леонтьевну на Хендехоховском кладбище, рядом с могилой Миры Борисовны Шварц. Собрались все свои, кроме Джона — он пас. Из города на этот раз не было никого. Просто никого не осталось, последняя подруга детства Таисии Леонтьевны умерла за пять лет до неё. Шварц пришёл, постоял, печально покачал головой, бросил в могилу пару горстей и незаметно исчез. На поминках по понятной причине его тоже не было, как не было и Гвидона, когда провожали Миру. Вернувшись с пастбища, самих поминок Джон уже не застал, все разошлись. Стол был убран, посуда перемыта. Всё ж зашёл, сказал подходящие слова; Прис налила отцу, достала оставшиеся пирожки, разогрела на плитке. Он выпил с Гвидоном, не чокаясь, и немного поел. А на другой день, гоня стадо мимо кладбища, забрёл на могилу, положил полевых цветов на свежий холмик. По привычке свистнул Ирода и тут же с досадой чертыхнулся, по-русски, — Ирод уже десять лет лежал под кустом шиповника, в палисаднике перед домом Шварца. А нового пса заводить не стал, решил, такого очеловеченного кобеля, как Ирод, уже не будет, а другого не надо. Дед Харпер вздохнул и погнал скотину дальше, не спеша, но так, чтобы не опоздать к вечерней дойке. И чтобы ещё остались силы покорпеть над рукописью чуток, перед сном, хотя бы одну-две странички осилить.
Мемуары, над которыми он начал работать, не ставя никого в известность, продвигались небыстро, но продвигались. Всё началось года четыре назад, когда сначала приснилось название: «Пастух её величества, или Диалоги с Фролом», после чего уже возникла потребность излиться, записать на бумаге. Начал поздней осенью семьдесят шестого, отдохнув с неделю после длинного рабочего сезона. Писал, запершись, поздними вечерами, порой прихватывая кусок от ночи. Понемногу. Первый год-два больше думал, чем писал. Так, кой-чего конспектировал, на английском, мелким неразборчивым почерком. В основном припоминал разговоры с Фролкой — бесконечные истории из длинной пастушьей жизни зажившегося на этом свете старика: его непростые любови и простые радости, жестокие разочарования и несбыточные мечты, философствования на тему и без, но всегда наполненные убийственно-жестокой правдой. Ну и прочее всякое, что выплёскивалось Фролкой под настроение, касательно погоды, скотины — коровьей или людской, — или самогона от очередника. Получалось небезынтересно. Даже, можно сказать, местами невообразимо занимательно. И мало-помалу, по крапульке, по историйке, по коровьей лепёшке, вырисовывался, прорастал длинными зимними вечерами, обретал худую, но жилистую плоть двадцатый век глазами деревенского пастуха: от царей к Ленину, от Ленина к Сталину и дальше, дальше… Перед этим, в дожижинской части воспоминаний, разместил и свой параграф, законный, который начал с дома Мэттью в Лондоне и детства в Брайтоне. Далее — по порядку бытия. Нора. Дети. Разведка. Арест. Прозрение и перелом. Война. Работа на два лагеря, но на самом деле — на единственный, в который поверил. Хостинский дом. Снова лагерь, но уже другой, настоящий, советский, на русском Севере, под вышками и колючкой, где жизнь — случайность, а смерть — закон. Кончина Сталина. Реабилитация. Гибель Норы. Девочки. Жижа. Овраг с волшебной глиной. И далее, из-за чего всё и задумалось, оно же самое главное — диалоги с Фролкой. То, над чем, медленно близясь к завершению, продолжал работать по сей день. То, чего больше всего боялся не успеть завершить. Хотя, с другой стороны, точно знал — если б не передвигал ногами в этом добровольно-принудительном режиме, с весны по осень, многотысячно меряя сапогами привычный маршрут, с кнутом за поясом и ежевечерней мутной стопкой, давно бы сдох уж от болезней и тоски. А тоска? Она была. Порой доводящая до желания умереть, уйти… настолько сильным было разочарование в том, ради чего ходил по краю столько лет, оставаясь кретиническим идеалистом. Подхлестнул, как ни странно, Фрол, своими простыми мужицкими истинами. Сказал как-то, когда крепко выпил, под самый конец сезона:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Колония нескучного режима - Григорий Ряжский», после закрытия браузера.