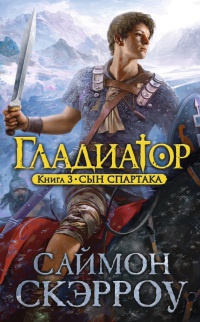Читать книгу "Диктатор - Роберт Харрис"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Третье письмо было написано день спустя после второго и послано из предгорий Альп: «Антоний на марше. Он направляется к Лепиду. Пожалуйста, позаботься о дальнейших событиях в Риме. Отрази направленную на меня вселенскую злобу, если сможешь».
– Он дал ему уйти, – сказал Цицерон, опустив голову на руку и перечитывая письма от начала до конца. – Он дал ему уйти! А теперь он говорит, что Октавиан не может или не будет слушаться его, как главнокомандующего… Ну и дела!
Оратор немедленно написал письмо, чтобы тот же гонец, вернувшись, доставил его Дециму: «Судя по твоим словам, пламя войны, далеко не погасшее, полыхнуло еще выше. Мы поняли так, что Антоний бежал в отчаянии с несколькими невооруженными и павшими духом приверженцами. В действительности его положение таково, что стычка с ним будет опасным делом. Я вообще не считаю, что он бежал из Мутины, – просто перенес театр военных действий в другое место».
На следующий день похоронный кортеж Гирция и Пансы добрался до Рима в сопровождении почетной охраны – кавалеристов, посланных Октавианом. Он прошел в сумерках по улицам до форума, и за ним наблюдала притихшая хмурая толпа. У подножия ростры в свете факелов ожидали сенаторы, все в черных тогах, чтобы встретить кортеж. Корнут произнес панегирик, написанный для него Цицероном, а потом обширное собрание двинулось за похоронными дрогами на Марсово поле, где был приготовлен погребальный костер. В знак патриотического уважения погребальщики, актеры и музыканты отказались принять плату. Цицерон пошутил, что, когда погребальщик не берет твоих денег, ты знаешь, что ты – герой. Но втайне, под этой открытой демонстрацией бравады, он был глубоко встревожен. Когда факелы поднесли к основаниям погребальных костров и пламя взметнулось вверх, в его свете лицо Марка Туллия выглядело старым и осунувшимся от беспокойства.
Почти таким же тревожным фактом, как и спасение Антония, было то, что Октавиан или не хотел, или не мог подчиняться приказам Децима. Цицерон написал ему, умоляя соблюдать указ Сената и отдать себя и свои легионы под командование губернатора: «Пусть любые разногласия будут улажены после нашей победы! Поверь, самый верный путь добиться высочайших почестей в государстве – это сыграть сейчас самую важную роль в уничтожении величайшего врага».
Он не получил ответа – зловещий знак.
Потом Децим написал моему другу снова: «Лабеон Сегулий говорит, что он был у Октавиана и они немало толковали о тебе. Сам Октавиан не высказал насчет тебя никаких жалоб, говорит Сегулий, не считая упоминания ремарки, которую он приписывает тебе: “Молодого человека следует возвышать, восхвалять – и убрать”. Он добавил, что не собирается позволить, чтобы его убрали. Что же касается ветеранов, то они злобно ропщут и представляют для тебя опасность. Они собираются запугивать тебя и впоследствии заменить тебя молодым человеком».
Я давно предупреждал Цицерона, что его любовь к игре слов и забавным репликам когда-нибудь доведет его до беды, но он не мог удержаться от этого. Марк Туллий всегда пользовался репутацией человека колкого остроумия, а когда он стал старше, то стоило ему открыть рот, как люди собирались вокруг, желая посмеяться. Такое внимание льстило ему и вдохновляло его на то, чтобы отпускать еще более саркастические реплики. Его сухие замечания быстро передавались из уст в уста, а иногда ему приписывали фразы, которые он никогда не произносил; я составил целую книгу таких апокрифов. Первый Юлий Цезарь, бывало, наслаждался его «шпильками», даже когда сам становился их мишенью. Например, когда диктатор изменил календарь и кто-то спросил, придется ли восход Сириуса на ту же дату, что и раньше, Цицерон ответил: «Сириус сделает, как ему велят».
Говорят, Гай Юлий Цезарь покатывался со смеху от шуток моего друга, но его приемный сын, каковы бы ни были прочие его достоинства, имел изъян в отношении чувства юмора, и Марк Туллий в кои-то веки последовал моему совету и написал ему письмо с извинениями: «Насколько я понимаю, законченный дурак Сегулий рассказывает всем и каждому о некоей шутке, которую я предположительно отпустил, и теперь весть о ней достигла и твоих ушей. Я не могу припомнить, чтобы делал такое замечание, но я не отрекаюсь от него, потому что оно смахивает на то, что я мог бы сказать, – нечто легкомысленное, сказанное под влиянием момента, а не для того, чтобы это рассматривали как серьезное политическое заявление. Я знаю, мне не нужно тебе рассказывать, как я тебя люблю и как ревностно защищаю твои интересы, насколько я непреклонен в том, что ты должен играть ведущую роль в наших делах в грядущие годы, но, если я случайно тебя оскорбил, искренне прошу прощения».
На это письмо пришел такой ответ: «От Гая Цезаря – Цицерону. Мое отношение к тебе не изменилось. Не нужно извинений, хотя, если тебе хочется их принести, само собой, я их принимаю. К несчастью, мои сторонники не так беззаботны. Они предупреждают меня каждый день, что я – дурак, раз доверился тебе и Сенату. Твоя неосторожная реплика была для них что мята для кота. И в самом деле – тот указ Сената! Как можно ожидать, что я отдамся под командование человека, который заманил моего отца в смертельную ловушку? Я обращаюсь с Децимом вежливо, но мы никогда не сможем стать друзьями, и мои люди – они ведь ветераны моего отца – никогда не пойдут за ним. Они говорят, что лишь одна причина заставила бы их биться за Сенат безоговорочно – если бы меня сделали консулом. Такое возможно? В конце концов, оба места консула вакантны, и, если я могу в девятнадцать лет быть пропретором, почему не могу быть консулом?»
Это письмо заставило Цицерона побелеть. Он немедленно написал в ответ, что, каким бы вдохновленным богами Октавиан ни был, Сенат никогда не согласится, чтобы человек, которому еще не исполнилось и двадцати, стал консулом. Тот ответил так же быстро: «Похоже, моя молодость не мешает мне возглавлять армию на поле боя, но мешает мне быть консулом. Если единственный спорный вопрос – юность, не мог бы я стать соконсулом того, кто так же стар, как я молод, и чья политическая мудрость и опыт возместят недостаток их у меня?»
Цицерон показал это письмо Аттику.
– Что ты можешь из этого извлечь? Он предлагает то, о чем я думаю?
– Уверен, именно это он и подразумевает. Что ты будешь делать?
– Не буду притворяться, что такая честь ничего бы для меня не значила. Очень мало людей становились консулами дважды – это означало бы бессмертную славу, и я в любом случае выполняю всю работу консула, хоть и не называюсь им. Но цена!.. Нам уже довелось иметь дело с одним Цезарем с армией за спиной, требующим в обход закона назначить его консулом, и, в конце концов, нам пришлось воевать, чтобы попытаться его остановить. Неужели мы должны иметь дело с еще одним и на сей раз покорно сдаться ему? Как это будет выглядеть для Сената и для Брута с Кассием? Кто вложил такие идеи в голову молодого человека?
– Может, ему и не нужно, чтобы кто-то вкладывал их в его голову, – ответил Аттик. – Может, они возникли у него совершенно спонтанно.
Цицерон не ответил. Рассматривать такую возможность было невыносимо.
Две недели спустя Марк Туллий получил письмо от Эмилия Лепида, стоявшего лагерем со своими семью легионами у Серебряного моста[92] в южной Галлии. Прочитав послание, Цицерон наклонился и опустил голову на стол. Одной рукой он подтолкнул письмо ко мне.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Диктатор - Роберт Харрис», после закрытия браузера.