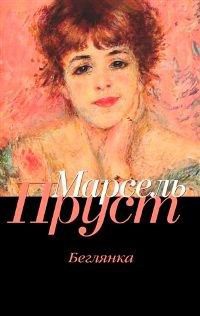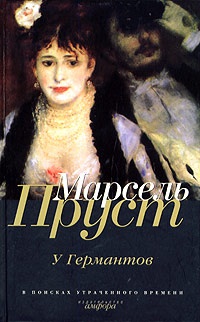Читать книгу "Пленница - Марсель Пруст"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Иногда лунная ночь была так хороша, что когда Альбертина засыпала, я подходил к ее кровати предложить ей полюбоваться на освещенное окно. Я убежден, что отправлялся в ее комнату именно с этой целью, а не для того, чтобы удостовериться в ее присутствии там. Да и как бы могла она от меня сбежать? Ведь для этого понадобился бы неправдоподобный сговор ее с Франсуазой. В темной комнате я ничего не видел, кроме узенькой диадемы черных волос на белом фоне подушки. Но я различал дыхание Альбертины. Сон ее был так глубок, что я сначала колебался, подходить ли мне к ней, или нет. Потом я присаживался на край ее кровати. Сон Альбертины продолжал струиться с тем же журчанием. Невозможно выразить, сколько веселости было в ее пробуждениях. Я целовал ее, встряхивал. Она сразу просыпалась и тут же, без малейшего перехода, разражалась смехом, обвивая руками мою шею и говоря мне: «А я как раз спрашивала себя, не придешь ли ты», и снова нежно смеялась. Можно было подумать, что ее очаровательная головка, когда она спала, заключала в себе лишь веселость, нежность и смех. Разбудив ее, я только пускал струю утоляющего жажду сока, вроде того, что брызжет из некоторых плодов, когда мы их надкусываем.
Зима между тем кончалась; вернулась весна, и часто, когда Альбертина со мной прощалась, и моя комната, занавески и стена над занавесками были еще совсем черные, из соседнего монастырского сада доносились богатые и вычурные в тишине, как звуки церковного органа, рулады какой-то неведомой птицы, которая уже пела в лидийском ладу заутреню и посылала ко мне в потемки полнозвучную ноту видимого ею солнца. Один раз даже мы вдруг услышали размеренное повторение какого-то жалобного зова. То были голуби, начинавшие свое воркование. «Это доказывает, что на дворе уже день», сказала Альбертина и, нахмурив брови, точно у меня она лишена была удовольствий весны, прибавила: «началась весна, потому что голуби вернулись». Сходство между их воркованием и пением петуха было столь же глубоким и столь же трудно уловимым, как в септете Вентейля сходство между темой адажио и темой последней части, построенной на той же основной теме, что и вступительная часть, но настолько преображенной различиями тональности и ритма, что непосвященная публика, открывая какое-нибудь произведение о Вентейле, с удивлением видит, что все эти три куска построены на тех же четырех нотах, которые можно, вдобавок, сыграть одним пальцем на рояле, не узнав ни одного из них. Так и эта меланхолическая пьеса, исполнявшаяся голубями, была чем-то вроде пения петуха в минорном тоне, которое, однако, не восходило к небу, не поднималось вертикально, но, размеренное, как рев осла, окутанное лаской, шло от одного голубя к другому по одной горизонтальной линии, никогда не взлетая и не обращая своей идущей вбок жалобы в радостный зов, столько раз раздающийся в аллегро вступительной и заключительной части септета.
Скоро ночи сделались еще короче, и задолго до прежних утренних часов я видел, как из-за занавесок на моем окне выступает белизна, с каждым днем нараставшая. Если я все еще предоставлял Альбертине вести эту жизнь, хотя и видел, что, несмотря на ее отрицания, она чувствует себя в моем доме пленницей, то единственно вследствие не покидавшей меня уверенности, что завтра я найду в себе силы засесть за работу, а также вставать с постели, выходить из дому, готовиться к отъезду на дачу, которую мы купим и где Альбертина будет иметь возможность более свободно и не тревожа меня вести жизнь, какую ей захочется: отдыхать, купаться в море, плавать или охотиться.
Однако на другой день случалось так, что ретроспективно один из часов, образовавших прошлое, которое я то любил, то ненавидел в Альбертине, один из тех часов, которые казались мне хорошо известными (ведь когда настоящее еще не обратилось в прошлое, каждый, из корысти, из вежливости или из жалости, старается выткать между ним и нами завесу лжи, которую мы принимаем за действительность), вдруг поворачивался ко мне стороной, которую никто не пытался больше от меня скрывать и которая оказывалась тогда совсем не такой, как я ее себе представлял. Вместо доброго намерения, рисовавшегося мне некогда за таким-то взглядом Альбертины, обнаруживалось некоторое не подозреваемое до сих пор желание, отчуждавшее от меня новую часть ее сердца, тогда как я считал, что оно уже мной освоено. Например, когда Андре покинула Бальбек в конце июля, Альбертина мне не сказала, что она должна вскоре с ней увидеться, и я думал, что она с ней встретилась даже раньше, чем предполагала, так как, по случаю глубокой печали, овладевшей мной в Бальбеке памятной ночью 14 сентября, она сделала мне одолжение, согласившись немедленно вернуться в Париж. Когда она туда приехала 15 сентября, я попросил ее навестить Андре и сказал: «Рада она была с вами увидеться?» Между тем, когда г-жа Бонтан принесла однажды Альбертине какие-то вещи, я вышел к ней и сказал, что Альбертина отправилась на прогулку с Андре: «Они поехали кататься за город». — «Да, — отвечала г-жа Бонтан, — Альбертина любит уезжать за город. Три года тому назад каждый божий день она ездила в Бютт-Шомон». При звуках слова «Бютт-Шомон» дыхание у меня прервалось, — Альбертина мне говорила, что она никогда там не бывала.
Действительность самый искусный из неприятелей. Она предпринимает атаки на те участки нашего сердца, где мы их не ждали и где не подготовились к защите. Кому же солгала Альбертина: тетке, сказав, что она ездила каждый день в Бютт-Шомон, или мне, сказав, что никогда там не бывала? «К счастью, — продолжала г-жа Бонтан, — бедняжка Андре скоро уезжает за город, в настоящую деревню, дышать живительным воздухом полей, а она в нем очень нуждается, у нее такой нездоровый вид. Правда, прошлым летом она не имела времени набраться на лоне природы столь необходимых ей сил. Представьте, она покинула Бальбек в конце июля, рассчитывая вернуться туда в сентябре, но так как ее брат вывихнул себе колено, она не могла это сделать». В таком случае, Альбертина ждала ее в Бальбеке и скрыла это от меня. Правда, в таком случае с ее стороны было тем более любезно предложить мне вернуться в Париж. Если только не… «Да, я припоминаю, что Альбертина мне об этом говорила (это была неправда). Когда же произошел этот несчастный случай? Все это немного перепуталось у меня в голове». — «На мой взгляд, как раз вовремя, потому что днем позже наступал срок платежа за виллу, и бабушке Андре пришлось бы понапрасну заплатить за лишний месяц. Брат Андре сломал ногу 14 сентября, она успела телеграфировать Альбертине пятнадцатого утром, что не приедет, а Альбертина успела предупредить контору. Днем позже был бы представлен счет до 15 октября». Таким образом, когда Альбертина, переменив решение, сказала мне: «Уедем сегодня вечером», она, вероятно, представляла себе городскую квартиру бабушки Андре, где после нашего возвращения рассчитывала встретиться со своей приятельницей, которая, о чем я и не подозревал, обещала ей вскоре приехать в Бальбек. Ее любезное согласие вернуться со мной в Париж, представлявшее такой резкий контраст с ее решительным отказом несколько часов тому назад, я пытался приписать перевороту, случившемуся в ее добром сердце. Между тем, оно было попросту отражением некоторой не известной нам перемены обстоятельств: в такой перемене весь секрет зигзагов поведения женщин, которые нас не любят. Они наотрез отказывают нам в свидании, потому что их дедушка требует, чтобы они у него обедали. «Так приходите после обеда», — настаиваем мы. «Он меня долго не отпускает. Он, может быть, будет меня провожать домой». Попросту у них назначено свидание с человеком, который им нравится. Вдруг оказывается, что человек этот занят. Тогда они приходят к нам извиниться за причиненное огорчение, сказать, что, послав дедушку к черту, они останутся с нами, потому что мы для них милее всего на свете.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Пленница - Марсель Пруст», после закрытия браузера.