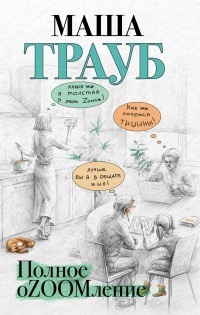Читать книгу "Ночной поезд на Лиссабон - Паскаль Мерсье"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А если бы с каждым метром, пройденным поездом, гасилось по воспоминанию и мир кусок за куском возвращался в свое прежнее состояние, получилось бы так, что на вокзале в Берне все вернулось бы на круги своя, и его поездки как бы вовсе не было?
Грегориус вынул конверт, который ему дала Адриана. «Это разрушает все. Все». То, что он сейчас собирался прочитать, Праду написал после Испании. «После девушки». Он вспомнил, что Адриана говорила о его возвращении: «Небритый, щеки ввалились… смел все… принял снотворное… проспал целые сутки…».
Когда поезд подходил к Вилар-Формозу, где должен был пересечь границу, Грегориус трудился над переводом текста, начирканного Праду мелким почерком.
CINZAS DA FUTILIDADE — ПЕПЕЛ ТЩЕТЫ
Прошла целая вечность с тех пор, как Хорхе позвонил мне ночью в паническом страхе смерти. Нет, не вечность. Это было в ином временном измерении, совершенно ином. А при всем том прошло ровно три года, три обычных, скучных календарных года. Эстефания. Он тогда говорил об Эстефании. Гольдберг-вариации. Она играла их ему, а он мечтал сыграть их ей на своем «Стейнвее». «Эстефания Эспиноза». «Что за волшебное, пленительное имя! — подумал я той ночью. — Не хотел бы я воочию увидеть эту женщину, ибо ни одна женщина не может удовлетворить такому имени — это стало бы разочарованием». Откуда мне было знать, что все совсем наоборот: имя оказалось для нее недостаточным.
Страх перед тем, что жизнь останется незавершенным, голым торсом. Осознание того, что уже не станешь тем, на которого рассчитывал. Так мы в конечном итоге определили страх смерти. Но, спросил я, как может пугать неполнота или невоплощенность жизни, если человек может констатировать это как непреложный факт лишь с той стороны гроба? Вроде бы Хорхе понял мою мысль. Но что же он ответил?
Почему я не листаю старые записи, почему не хочу посмотреть? Почему мне не хочется вспоминать, что я тогда думал и чувствовал? Откуда это безразличие? И безразличие ли это? Или потеря гораздо серьезнее?
Знать, что думал раньше, и как из этого выросло то, что думаешь сейчас, — это бы тоже стало частью полноты, будь у меня эта потребность. Так не потерял ли я то, что делает смерть трагедией? Веру в воплощение жизни, за которую стоит бороться и отвоевывать у смерти?
«Лояльность, — говорил я Хорхе. — Лояльность. В ней находим мы воплощение». Эстефания. Ну почему этот случайный ураган не мог пронестись в другом месте? Почему он обрушился именно на нас? Зачем поставил нас перед испытанием, до которого мы не доросли? Испытание, которое мы оба не выдержали, каждый на свой лад.
«По мне, так ты слишком ненасытен. Быть с тобой потрясающе. Но для меня ты слишком ненасытен. Я не могу пуститься с тобой в плавание. Это было бы твое путешествие, только твое. Оно бы никогда не стало нашим». Она была права: никто не имеет права делать другого кирпичиком в строительстве собственного блаженства или заправщиком в собственных гонках.
Финистерре. Никогда я не испытывал такой ясности ума, как там. Такой трезвости. С того мгновения я знаю: мои гонки окончены. Гонки, о которых я сам и не подозревал, хотя все время мчался, мчался. Гонки без соперников, без финишной ленты, без приза. Полнота? Цельность? «Espejismo» — говорят испанцы. Слово я выловил в газете, в те дни. Последнее, что еще помню. «Мираж». «Фата-моргана».
Наша жизнь — всего лишь летучие барханы, нанесенные одним порывом ветра, разрушенные другим. Причудливые формы тщеты, развеянные прежде, чем успели как следует образоваться.
«Он был уже не он», — сказала Адриана. А с отдалившимся, ставшим чужим братом она не хотела иметь дела. «Увезите. Далеко, совсем далеко».
А когда человек бывает самим собой? Когда он такой, как всегда? Такой, каким видит себя? Или такой, когда раскаленная лава мыслей и чувств погребает под собой все лжи, маски, самообманы? Чаще всего это другие обвиняют, что кто-то больше не он. Может быть, в действительности это значит вот что: ты уже не такой, каким мы хотим тебя видеть? Так не есть ли эта фраза по большому счету своего рода боевой клич, направленный против потрясения основ привычного и замаскированный под заботу о ближнем?
Под мерный стук колес Грегориус заснул. А потом случилось нечто невообразимое, чего ему еще никогда не приходилось испытывать: очнувшись, он угодил прямо в головокружение. Он барахтался в потоке обманчивых ощущений, который засасывал его все глубже в бездну. Он ухватился за подлокотники и закрыл глаза. Стало еще хуже. Тогда он прикрыл ладонями лицо. Приступ прошел.
«Λιστρου». Все в порядке.
Ну почему он не полетел самолетом? Обождал бы всего восемнадцать часов до ближайшего рейса! Ранним утром уже был бы в Женеве, еще три часа — и дома. В обед — у Доксиадеса, а тот бы устроил все остальное.
Поезд замедлил ход. «САЛАМАНКА». И вторая табличка: «САЛАМАНКА». Эстефания Эспиноза.
Грегориус поднялся, достал с полки чемодан, подержался за сиденье, пока не унялось головокружение. На перроне он потопал ногами, чтобы растоптать воздушную подушку, которая снова была тут как тут.
Когда позже Грегориус вспоминал свой первый вечер в Саламанке, ему представлялось, что он часами, борясь с головокружением, ковылял по соборам, капеллам и крестовым ходам, слепой к их красотам, но потрясенный их мощью. Он смотрел на алтари, своды и хоры, которые в его памяти напластовались друг на друга, дважды угодил на мессу и в конце концов обнаружил себя сидящим на каком-то органном концерте.
«Не хотел бы я жить в мире без соборов. Мне нужны их красота и величие. Мне нужны они, чтобы противостоять обыденности мира. Хочу поднимать взор к их сияющим витражам и ослепляться их неземными красками. Мне нужен их блеск. Блеск, отвергающий серое единообразие униформ. Хочу, чтобы меня облекала строгая прохлада церквей. Мне нужна ее невозмутимая тишина. Мне нужна она против бездушного рева казарм и остроумной болтовни соплеменников. Я хочу слышать рокочущий голос органа, это половодье сверхъестественных звуков. Мне нужен он против пустячной бравурности маршей».
Это написал семнадцатилетний Праду. Мальчик с пламенеющей душой. Юноша, который вскоре уедет с О'Келли в Коимбру, где им будет принадлежать весь мир, в университет, где будет наставлять профессоров. Молодой человек, который еще ничего не знает об ураганах случайности, зыбучих песках и пепле тщеты.
Годы спустя он напишет патеру Бартоломеу эти строки:
«Есть вещи, которые для нас, людей, слишком огромны: боль, одиночество и смерть, но также красота, благородство и счастье. Для них создана религия. А если мы ее теряем, что происходит? Те вещи все равно нам велики. Что нам остается, так это поэзия отдельной жизни. Достаточно ли она сильна, чтобы нести нас?»
Номер Грегориуса был с видом на Старый и Новый кафедральные соборы. Когда пробили часы, он подошел к окну и устремил взгляд на ярко освещенные фасады. Сан Хуан де ла Крус жил здесь. Флоранс, когда писала о нем диссертацию, много раз бывала здесь. Она ездила с сокурсниками — ему было не до того. Он не выносил, как болтливо они восторгались мистическими стихами великого поэта, она и другие.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Ночной поезд на Лиссабон - Паскаль Мерсье», после закрытия браузера.