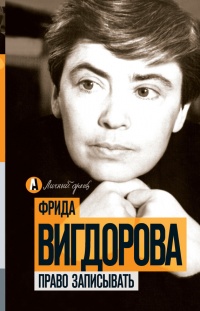Читать книгу "Неизвестный Толстой. Тайная жизнь гения - Владимир Жданов"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Сейчас с Сашей говорил. Она рассказывала про жадность детей [335] и их расчеты на мои писания, которые попадут им после моей смерти, следовательно, и на мою смерть. Как жалко их. Я отдал при жизни все состояние им, чтобы они не имели искушения желания моей смерти, и все-таки моя смерть желательна им. Да, да, да, несчастные люди, т. е. существа, одаренные разумом и даром слова, когда они и то и другое употребляют для того, чтобы жить, как животные. Нехорошо: сужу их; если так живут, то, значит, иначе не могут. А я сужу».
Друзья Толстого, обеспокоенные за судьбу его духовного наследия, предлагают Льву Николаевичу обеспечить его волю посредством формального документа. Сначала мысль эта Льву Николаевичу «неприятна», он возражает, говоря, что «провались все эти писания «к дьяволу», только бы ни вызывали они недобрых чувств», ему «тяжело», «потому что надо иметь дело с правительством». Но он не видит другого выхода и, наконец, хочет решить «все самым простым и естественным способом», отдав в фиктивную собственность дочери Александре Львовне не только «писания до какого-то года» как предлагали друзья, а «и прежние, до 82-го».
1 ноября 1909 года подписана выработанная при участии юриста первая редакция завещания [336] .
Личные отношения с Софьей Андреевной также до крайности усложнены. В прежнее время их тяжесть, являясь результатом столкновения двух противоположных мировоззрений, была тем самым логически оправданной и таила в себе возможность ее преодоления. Теперь же душевное состояние Софьи Андреевны сильно ухудшилось. В упреках, нападках, в отчаянии, во всех ее действиях стало больше проявлений истерической возбужденности, нежели разумных доводов здорового человека. Страдания Льва Николаевича теряют свою обоснованность.
Нервность Софьи Андреевны особенно обострилась летом 1909 года, в связи с предполагавшейся поездкой Льва Николаевича в Стокгольм на конгресс мира. Ей страшно отпустить мужа в далекое путешествие, она то протестует, то соглашается, угрожает, не знает, что делать, теряет под собой почву.
В эти дни Лев Николаевич записывает в дневнике: «Вчера С. А. была слаба и раздражена. Я не мог заснуть до 2-х и дольше. Проснулся слабым, меня разбудили. С. А. не спала всю ночь. Я пришел к ней. Это было что-то безумное. – Душан [337] отравил ее и т. п.»
«После обеда заговорил о поездке в Швецию, поднялась страшная истерическая раздраженность. Хотела отравиться морфином, я вырвал из рук и бросил под лестницу. Я боролся. Но когда лег в постель, спокойно обдумал, решил отказаться от поездки. Пошел и сказал ей. Она жалка, истинно жалею ее. Но как поучительно. Ничего не предпринимал, кроме внутренней работы над собой. И как только взялся за себя, все разрешилось».
«Началось опять мучительное возбуждение С. А. Мне и тяжело и жалко ее, и слава Богу, удалось успокоить».
«Нынче… разговор с С. А., как всегда, невозможный». «Пришла С. А., объявила, что она поедет, но «все это наверное кончится смертью того или другого, и бесчисленные трудности». Так что я никак уже в таких условиях не поеду».
«С. А. готовится к Стокгольму и, как только заговорит о нем, приходит в отчаяние. На мои предложения не ехать, не обращается никакого внимания. Одно спасение: жизнь в настоящем и молчание».
«Я устал и не могу больше и чувствую себя совсем больным. Чувствую невозможность относиться разумно и любовно, полную невозможность. Пока хочу только удаляться и не принимать никакого участия. Ничего другого не могу, а то я уже серьезно думал бежать. Ну-тка, покажи свое христианство. C'est le moment ou jamais [338] . А страшно хочется уйти. Едва ли в моем присутствии здесь есть что-нибудь, кому-нибудь нужное. Тяжелая жертва, и во вред всем. Помоги, Бог мой, научи. Одного хочу: делать не свою, а твою волю. Пишу и спрашиваю себя: правда ли? не рисуюсь ли я перед собою? Помоги, помоги, помоги».
В 1909 году мысль об уходе не один раз возникает у Льва Николаевича, и он в течение нескольких месяцев возвращается к ней.
«Сейчас вышел: одна, Афанасьева дочь [339] , с просьбой денег, потом в саду поймала Анисья Копылова о лесе и сыне; потом другая Копылова, у которой муж в тюрьме, – и я стал опять думать о том, как обо мне судят: «Отдал будто бы все семье, а сам живет в свое удовольствие и никому не помогает». И стало обидно, и стал думать, как бы уехать. Как будто и не знаю того, что надо жить перед Богом в себе и в нем и не только не заботиться о суде людском, но радоваться унижению. Ах, плох, плох. Одно хорошо, что знаю [это], и то не всегда, а только нынче вспомнил. Что ж плох, постараюсь быть менее плохим… Уехать нельзя, не надо, а умереть все-таки хочется, хоть и знаю, что это дурно и очень дурно».
«Вчера ничего не ел и не спал, как обыкновенно. Очень было тяжело. Тяжело и теперь, но умиленно-хорошо. Да, – любить делающих нам зло, говоришь, – ну-ка, испытай. Пытаюсь, но плохо. Все больше и больше думаю о том, чтобы уйти и сделать распоряжение об имуществе. Теперь утро, пришел с прогулки. Не знаю, что буду делать. Помоги, помоги, помоги. Это «помоги» значит то, что слаб, плох я. Хорошо, что есть хоть это сознание».
«Хоть и неприлично говорить это и глупо и часто несправедливо, мне кажется, что я скоро уйду, и я не отгоняю эту мысль, она и полезна и приятна».
8 августа Лев Николаевич сообщил по секрету М. А. Шмидт о своем намерении уйти из дома. Тогда же он спросил Д. П. Маковицкого, нужен ли паспорт за границей и как перейти границу без паспорта: «Узнайте, как можно переправиться через границу. Хочется уединения; удалиться от суеты мирской, как буддийские старики делают. Вам одному говорю».
Только год спустя Лев Николаевич убедился окончательно в необходимости оставить семью. А теперь он имеет еще силы бороться с этим соблазном, в нем теплится надежда на счастливое разрешение создавшегося положения, он ищет подтверждений, иногда их находит.
«Неприятные известия, что Соня взволновалась предложением ехать до Москвы врозь. Пошел к ней. Очень жаль ее; она, бедная, больна и слаба. Успокоил не совсем, но потом она так добро, хорошо сказала, – пожалела; сказала: «Прости меня». Я радостно растрогался».
«Приятно было вчера или третьего дня в то время, как я как раз думал о том, как я счастлив, сказать пришедшей здороваться Соне, что я счастлив, и причина этого – и она».
«Соне немного лучше, но она очень жалка. Вот где помочь, а не отворачиваться, думая о себе».
«Вчера в середине дня было состояние умиления до слез, радости сознания жизни, как части, – проявления Божества, – и благодарности кому-то, чему-то великому, недоступному, благому, но сознаваемому. Вчера же Соня говорила мне, огорчаясь, о том, как в дневниках моих она видит мое недовольство ею. Я жалею об этом, и она права, что я in the long run [340] был счастлив с нею, не говоря уже о том, что все хорошо. Хорошо и то, что я жалею, что огорчил ее. Она просила написать о вымарках в дневнике, что они сделаны мною. Очень рад сделать это».
Тяжело, мучительно Софье Андреевне.
Она чувствует, что близким к Льву Николаевичу людям стала в тягость. Ее из учтивости слушают и избегают ее. С ней нет ничего общего, ее присутствие переносят как тяжелую необходимость. В глазах многих из них Софья Андреевна есть не что иное, как болезненный нарост, который по соображениям моральным нельзя удалить. В своем доме она чужая. Оживленный разговор при появлении Софьи Андреевны сразу замолкает, когда она уходит, начинается задушевная беседа, какая может быть только без нее [341] . Ее горе никого не задевает, ее радости никого не трогают. С мужем, с которым ее связывают 47-летние узы, нет равных отношений. Она для него испытание, преодоление зла, путь к другой жизни, в то время как он для Софьи Андреевны – начало всего, основа ее семейного здания.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Неизвестный Толстой. Тайная жизнь гения - Владимир Жданов», после закрытия браузера.