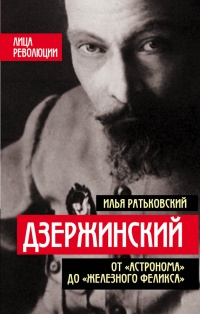Читать книгу ""Еврейское слово". Колонки - Анатолий Найман"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Все СМИ подвели итоги 2012 года. Давайте и мы с опозданием.
Подавляющее большинство отзывов на происходившее в минувшем году свелось к оценкам протестного движения. Подавляющее большинство оценок – к его спаду, затуханию, провалу. Картина «Протестное движение у разбитого корыта», и на ней множество деталей, внушительно подтверждающих, что так оно и есть. Год назад счет протестующих доходил до сотни и более тысяч, в конце – еле-еле тысячи три. Особенно активные – под следствием, под подпиской о невыезде, в СИЗО. Из наиболее заметных, вроде Немцова, Собчак, Акунина, вышел воздух. Какой-то Координационный совет выбрали, а что координировать, непонятно. Короче, полный, как говорили в доматерную эпоху, бенц.
И тут высовывается проживший свою жизнь частный человек с никого не колышащим собственным мнением и объявляет его в никому, кроме подписчиков, неизвестной газете «Еврейское слово». А мнение его: ничего подобного. Ни протест не ослабел, ни движение. Просто движение это – не то, которое оценивают СМИ. С самого начала. Да, на митинги собиралось множество людей, возмущенных подлогами, открывшимися в ходе выборов, и тем, что их, избирателей, трактуют как баранов. Но главный смысл этого был не в том, что требовали перемен, а в том, что – собирались. Как на любые другие сборища, концертные, спортивные, фестивальные. Была, разумеется, отчетливая политическая составляющая. Так ведь и повод был политический. Уличное шествие такая же форма участия в политике, как консерватория – участия в музыкальном вечере. Хватало, естественно, и профессиональных оппозиционеров, лидеров, ораторов, призывающих к тому и сему. Но это были заложники инерции: если толпа, ее надо куда-то вести, указать цель, должны быть витии, лозунги, надрыв. Взятие Бастилии, первомайская чикагская забастовка, Кровавое воскресенье – вот ориентиры. Хотел бы я сказать, что эти времена прошли, но могу и ошибиться. А вот в чем убежден, так это в том, что выход на Болотную и Сахарова не имел – и не мог иметь – ничего общего с мятежным духом площади Тахрир в Каире. Если кто находит сходство, то только внешнее. Настоящий протест заключался не в массовом послевыборном негодовании, не в шествии с флагами. Марши, трибуны, микрофоны – это всё потому, что нет других форм, отвечающих нынешнему состоянию умов и сердец. Настоящий протест был личный, в каждом случае индивидуальный, он выразил себя в желании людей выйти и собраться, не обращая внимания на то, как это расценит власть. Он за истекший год никуда не делся и, утверждаю без сомнений, не денется и впредь независимо от того, сто выйдет тысяч или сто человек.
Он может скрываться в убежище. В глубинах душ. На кухонных посиделках. В анекдотах. Скрытый, он как будто устраивает власть. Но только «как будто» – недаром 73 послереволюционных года она выковыривала его через стукачей и телефонную прослушку. Спустя некоторое время после падения советского режима выступили критики тех, кто при режиме занял позицию внутренней эмиграции. Потому, дескать, власть и была всесильна, что сопротивление ушло в глухое подполье. Оставим в стороне их представления о сопротивлении в реальности ГУЛага. Но не станем и превозносить внутренних эмигрантов, их выбор, осознанный или подвернувшийся, был вынужденным. Внутренняя эмиграция отнюдь не достижение человечества. Это просто реакция нормальных свободных, по крайней мере внутренне, людей с чувством самоуважения. Ровно такая же, как у вышедших год назад на митинги. Которые созванивались, уславливались, кто принесет бутерброды, а кто напитки, кто возьмет с собой детей, кто нет. Встречали приятелей, знакомили с ними других. В этом смысле она явление огромного размаха. Что, как не внутренняя эмиграция, обеспечило мировой цивилизации сохранение вер, которые власть запрещала под страхом смерти? А через них и народов, и культур. Не вариант ли крайней степени внутренней эмиграции жизнь Авраама и Сарры у Авимелеха? Иосифа у фараона? Вообще любой замкнутой жизни – личной и общинной?
Теперь каркну как попугай: история повторяется! Власть угнетает подвластных каждый день, и надо съесть не один пуд соли, пока характер нации станет воспитан, как, скажем, в Великобритании, где народу в целом и каждой входящей в него единице свойственно непоколебимое сознание того, что они «никогда, никогда, никогда не будут рабами». А пока положение дел такое, как сейчас у нас, следует засвидетельствовать уважение и признательность этим трем тысячам, принципиально вышедшим со своим несогласием на декабрьский мороз. Но не следует видеть в как минимум девяносто семи тысячах не вышедших признак упадка протеста. Движение попритихло, но протест не ослабел, ни-ни. Он не арабский разогрев и не большевистский. Я не битва народов, я новое, – как сказал поэт. Новому виду протеста предстоит понять, что он такое: то, о чем в упомянутых стихах предвозвещается – от меня будет свету светло; или – вставай, проклятьем заклейменный?
Общественное движение – показатель жизненности, созидательного потенциала и творческого импульса народа. Можно качать нефть, понемногу поднимать цены на водку, сажать недовольных под домашний и казенный арест и, как мы видим на собственном примере, прекрасно – или не очень прекрасно – существовать на одной седьмой части света. Только 143 миллионам человек все меньше хочется что-либо делать, о чем-либо думать, и водка все больше отдает нефтью. Активность сохранится у небольшого процента ворья в костюмах, которые делают его похожим на американских конгрессменов и европейских парламентариев. А еще некоторый процент уйдет во внутреннюю эмиграцию. Тоже не великий. Но, как показали августовские дни 1991 года, достаточно массовый, чтобы у этих в костюмах дело не вышло. Для этого не обязательно «выдвигать требования» и «не снижать активность». Можно и снизить, и не выдвигать. Никто не знает, как зреет зерно. Сто-двести тысяч в декабре 2011-го вышли сказать, что хотели; в декабре 2012-го не вышли. Как говорит один из персонажей «Короля Лира»: главное – готовность.
Накормим голодных, напоим жаждущих, оденем нагих, приютим сирот. Древняя, необсуждаемая заповедь милосердия. Сиротство – из самых горьких состояний, самых жалостливых слов, вровень с голодом, жаждой, холодом. Крайняя незащищенность. Как правило – результат массовых потрясений, войн, эпидемий. Пример – послереволюционные детские дома в России, романтизированные «Педагогической поэмой» Макаренко, возведенные в образец бессемейного общежития пропагандой первых советских десятилетий. На прошлой неделе прочел в интернете: из детских домов вышли великие люди. Так это было вбито в головы – что детдом чуть ли не идеальная обитель, лишь по недоразумению не попавшая в эдемский сад как подспорье для наших прародителей.
Так что марш протеста 13 января – это не очередное возмущение, вызванное ложью, или хищениями, или самодурством властей. Перед Новым годом Дума приняла, Совет Федерации одобрил, президент подписал «антисиротский закон». Но закон против сирот – это такой же абсурд, как закон о легализации убийств, краж, насилия. Марш был непосредственной реакцией на нарушение заповеди, «вписанной в сердце человека». Тем более и неделя стояла рождественская, воспоминание о бегстве матери с младенцем, о погибших младенцах вифлеемских. В церквах читали отрывок из Книги пророка Иеремии: «Глас в Раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». На самых беззащитных всегда обрушиваются беды самые безжалостные, во все времена льются слезы о детях, родоначальница царства Израильского оплакивает угнанных в вавилонский плен.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «"Еврейское слово". Колонки - Анатолий Найман», после закрытия браузера.