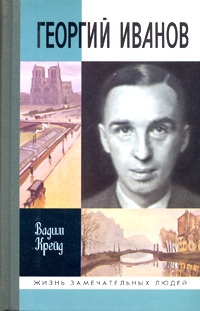Читать книгу "Прекрасные незнакомки. Портреты на фоне эпохи - Борис Носик"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А потом пришла великая новость из Парижа: за решение хитрой задачки насчет вращения твердого тела (которую не решил сам Лагранж) Софье Васильевне Ковалевской из Стокгольма (но мы-то с вами знаем, что она из России, из Петербурга, из Полибина) присуждена премия Французской академии, да что там – не просто премия, а двойная премия (двойные деньги, двойные честь и слава). И конечно, всеобщее волнение и восторги – потому что не просто математик одержал победу, а русский математик, более того, русская женщина…
Это был великий день. Вручали диплом под знаменитым куполом Института Франции (под ним и размещаются вальяжно пять французских академий) – было много волнений, много поздравлений и речей. И среди старинных бюстов и бесконечных славословий грузно сидел в сторонке Максим Ковалевский, которому становилось все больше и больше не по себе. Он видел, с какой ненасытной жаждой впитывает Софья Васильевна все эти нескончаемые похвалы, как меняется на глазах ее утомленное лицо – покрывается сетью морщинок, стареет, стареет… Что значит это его неоднократное упоминанье о ее старении, усталости – снова в связи с математикой, о которой мы с вами, разумеется, «не имеем никаких данных», но вот премия, двойная премия, тройная морока… И когда замечают преждевременные (или нет?) морщинки на лице молодой женщины (ей ведь всего 38, или – уже 38), то не значит ли это, что женщина перестает нравиться или чем-нибудь раздражает?
Это был день торжества русской науки, женского равенства (или даже превосходства), красное число феминизма. Но вот не был ли этот день переломным в истории отношений этих двух людей, Максима и Софьи? Разве не опасно, когда замечают и избыток тщеславия, и морщинки, и внезапное старение? Не стало ли это для нее днем еще одной – на сей раз последней – женской катастрофы, во всяком случае – начала катастрофы?
Мне довелось недавно сидеть в великолепном зале под куполом Института. Я выбрал стул (сам выбрал и назвал его «стулом Ковалевского»), уселся на нем в одиночестве, и перед моим взглядом прошла вся суета научных торжеств, весь тот долгий день. Знаменательное начало. Потом уж женское равенство стало одерживать победу за победой. Изысканные, элегантные дамы-террористки стреляли из-за угла в отечественных министров и полицейских, проливали кровь под водительством продажного Азефа, шли на каторгу, обживали тюрьмы…
Вернемся к нашим героям Максиму и Софье.
Они встречались целых два года в Италии, Англии, Швейцарии. Летом, снова сбыв кому-нибудь Фуфу, Софья Васильевна приезжала в приморский Болье. Доченьку мать с собой не брала, видно, разговоры о ее удочерении сами собой иссякли. Все шло к концу. Она еще была и веселой, и резвой, молодая Софья Васильевна, и Ковалевский отмечал, как расцветает она в пору бездумных радостей карнавала в Ницце. Но как ему было забыть, старому холостяку, и ее внезапное «старение», и сердечные приступы, и тщеславные воспоминания о международных и российских поздравительных телеграммах, о все той же академической премии (двойной!)… Дочка Фуфа отмечала, что мама приезжала в Стокгольм грустной.
Особенно грустной была совместная встреча Нового года (1891-го). Ковалевские ездили в Геную, и в канун Нового года Софье вдруг захотелось сходить на знаменитое генуэзское кладбище. Обилием мраморных статуй итальянские кладбища, даже в глухой деревне, превосходят и парижские, и петербургские, ну а генуэзское кладбище и вовсе заповедник погребального искусства. И вот, остановившись перед какой-то беломраморной надгробной красавицей, бедная Софья Васильевна сказала вдруг, что один из них не переживет этот год. И ясно было, о ком идет речь…
Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) – русский историк, юрист, социолог эволюционистского направления и общественный деятель, один из руководителей русского масонства
Она не хотела возвращаться в Стокгольм. Но он не удержал ее – не хотел, не умел? И она смирилась, а он, вероятно, согласился в душе с тем, что она выберет (должна выбрать) математику. Или литературу (об этом тоже часто шла речь). По дороге на станцию им перебежала дорогу черная кошка, и Софья Васильевна, испуганная, уговорила Максима проводить ее в Канны. Ковалевский позднее писал, что она простудилась еще в Каннах, усугубила простуду в Париже и на пароме по пути в Швецию, что по приезде она сразу слегла и вызвала врача, который поставил неправильный диагноз, а при вскрытии обнаружилось, что у нее еще и слабое сердце. Несмотря на все эти медицинские свидетельства, может, и то было правдой, что ей больше не хотелось жить. Что великая история женской победы привела к трагическому исходу. К гибели прекрасной, талантливой молодой женщины, гибели ее первого мужа, сиротству малолетней дочурки, к горечи друзей, к замешательству (и почти отречению) ее сердечного друга-однофамильца. Он рассказывал позднее, что, получив телеграмму в Болье, двинулся в Стокгольм и уже в Киле получил вторую телеграмму – о смерти Софьи. Максим очень странно выступал на похоронах: говорил от имени «передовой России» и «передовой науки» (но только не от своего). В его речи не было ни единого теплого слова. Покойную возлюбленную он называл Софьей Васильевной…
(Людмила Вилькина, Минский, Бальмонт, Белый, Брюсов, Розанов, Мережковский, Нина Петровская)
Заря Серебряного века, этого столь высоко чтимого ныне русского ренессанса культуры, искусства и настойчивых духовных поисков, забрезжила еще лет за десять до прихода «календарного» XX века. Забрезжила без особого шума. Не возвещали ее приход ни фанфары, ни пушечная канонада с корабельного борта, ни даже пистолетный выстрел, вроде того, что, глухо прозвучав в 1921 году в пыточном подвале ГПУ, пресек жизнь бесстрашного поэта-конквистадора и заодно прихлопнул яркую эпоху вольного духа и блистательной россыпи талантов.
Знатоки смогли все же отметить, какими были первые ее знаки и веянья, различимые доныне в шелесте страниц при свете настольной лампы. Вот, скажем, вышли три сборника «Русские символисты», составленные самим Валерием Брюсовым – кем же еще? Или, скажем, появился трактат Николая Минского «При свете совести: Мысли и мечты о смысле жизни». Год 1890… Кем был Валерий Брюсов для русского символизма и вообще для новейшей поэзии, объяснять, наверно, излишне. Если б давали поэтам чины, непременно вышел бы он в генералы. Но поэтам таких чинов не давали, а в печальные годы, когда умер Брюсов, генеральские чины были вообще временно отменены в России. Однако отозвавшаяся на смерть Брюсова Цветаева назвала ушедшего групповода символизма применительно к новой манере – героем труда. Тем более было модное названье уместно, что умер поэт с партбилетом в кармане.
Названный нами Николай Минский нынешнему читателю куда меньше известен, чем Брюсов, однако в том 1890-м и его имя было славным. Он считался ведущим поэтом журнала «Вестник Европы», его высоко ценили собратья по рифме, и он даже удостоился особого внимания тогдашней цензуры, которая сожгла тираж одного из сборников его стихов (для тех вегетарианских времен – воистину алый знак доблести). В трактате «При свете совести» предтеча символистов (или даже «отец русского декаданса») Николай Минский развивал идеи своей новой «религии небытия» (меонизма), в которой тогдашний читатель, обожавший всяческие духовно-религиозные искания, без раздражения различал, вероятно, и отзвуки народнических идей, и восточные мотивы, и призывы к жертвенности, и весьма популярное ницшеанство. Мы с вами проследим попутно за извилистым путем Николая Минского, но пока, вступив вослед ему в серебристое мерцанье эпохи, напомним о главных героинях нашего повествованья – o прекрасных женщинах. На обильном пиру века не забудем ни предрассветных звезд, ни деликатного польского тоста «За здрове пенькных пань по раз перфши» («Первый тост за здоровье прекрасных дам»), ни всегда своевременного английского напоминанья “Ladies first”.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Прекрасные незнакомки. Портреты на фоне эпохи - Борис Носик», после закрытия браузера.