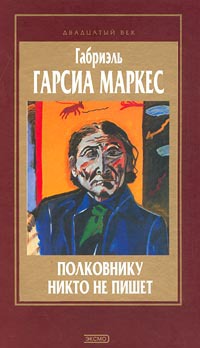Читать книгу "Осень патриарха - Габриэль Гарсиа Маркес"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Так мы его и нашли накануне его осени, то есть не его, а останки Патрисио Арагонеса, и вот спустя много лет после мнимой его смерти мы снова нашли его мертвое тело – в том же месте, в той же позе, в той же одежде, но в эти смутные времена никто ни в чем не был уверен и никто не мог поручиться, что на сей раз это действительно его тело, что этот исклеванный грифами и пожираемый червями труп старца – именно его труп; в обезображенной разложением руке невозможно было признать руку влюбленного государственного мужа, руку человека, который хватался за сердце, не встретив взаимности со стороны необыкновенной девушки эпохи Великого Шума; не было ничего, что помогло бы нам безошибочно установить его личность. Разумеется, в этом не было ничего удивительного, ведь даже во времена его наивысшей славы возникали сомнения в его реальном существовании; даже те, кто ему служил, понятия не имели о его действительном возрасте и облике, ибо в разных местах и при разных обстоятельствах он выглядел по-разному: на ярмарке, участвуя в томболе, он казался восьмидесятилетним, на аудиенции его можно было принять за шестидесятилетнего, а на официальных торжествах он представал мужчиной моложе сорока лет. Посол Пальмерстон, один из последних дипломатов, вручивших ему свои верительные грамоты, рассказал в своих запрещенных в нашей стране мемуарах, что трудно было представить себе более глубокого старика, рассказал о том невообразимом беспорядке, который царил в президентском дворце: «Мне приходилось обходить горы выброшенных бумаг, горы коровьих лепешек и собачьего кала. В коридорах гнили собачьи объедки, здесь же дремали сами собаки. Ни один человек из тех, кто сидел в служебных помещениях, не мог ответить ни на один мой вопрос, и мне пришлось обратиться к прокаженным и паралитикам, которые к тому времени занимали жилые покои, с просьбой указать мне дорогу в зал государственного совета. В зале том бродили куры и пытались клевать колосья изображенных на гобеленах пшеничных полей, а какая-то корова рвала холст с изображением епископа, явно намереваясь его сожрать. Что же касается президента, то я тотчас догадался, что он глух как пень. Это было видно не только по тому, что он невпопад отвечал на мои вопросы, – он, кроме того, выразил сожаление, что молчат все его птицы, в то время как птицы пели на все голоса: казалось, что ты идешь через девственный лес в ранний час рассвета. Внезапно он прервал церемонию вручения верительных грамот, просветлел лицом, сложил ладонь ковшиком, приставил ее к уху и, кивая на окна, за которыми некогда плескалось море, а теперь лежала пыльная равнина, заорал что есть мочи, назвав меня Ститсоном: „Слышите, мой дорогой Ститсон? Это топот мулов! Они бегут, потому что море возвращается! Слышите?“ Не верилось, что этот дряхлый старец был когда-то отважным предводителем федералистов, народным кумиром, который в первые годы своего режима любил внезапно появляться в городах и селениях, почти без охраны, в сопровождении одного-единственного гуахиро, вооруженного только мачете, и небольшой свиты, состоящей из депутатов и сенаторов, которых он назначал мановением пальца, сообразуясь с пожеланиями своего желудка. Появляясь в том или ином селении, он интересовался видами на урожай, здоровьем скота и личными делами каждого жителя. Обычно он разговаривал с народом на площади селения, сидя в кресле-качалке в тени манговых деревьев, обмахиваясь от жары вовсе не генеральской, а самой обыкновенной фуражкой, какую постоянно носил в те годы, и хотя казалось, что он слушает вполуха, дремлет, разморенный жарой, на самом деле он слышал и запоминал абсолютно все, что ему говорили мужчины и женщины селения, которых он знал по именам и фамилиям, – поименный список жителей всей страны удерживал он в своей голове, и тысячи цифр, и все без исключения проблемы нации. „Поди сюда, Хасинта Моралес, – позвал он меня, не открывая глаз. – Расскажи-ка нам, что сталось с тем парнем, которого я забрил в армию в прошлом году, чтобы он узнал почем фунт лиха, чтобы прописали ему парочку хороших клистиров, – как он там?“ „Здорово, Хуан Прието, – сказал он мне, – как чувствует себя твой племенной бык? Неплохо помогли ему мои заговоры от чумы – все черви из ушей повыползали, помнишь?“ А мне он сказал: „Ну что, Матильда Перальта, чем ты меня отблагодаришь за то, что возвращаю тебе твоего беглого муженька? Вот, полюбуйся: мы приволокли его на веревке, и я сам предупредил его, что он сгниет с китайскими колодками на ногах, если еще раз попытается смыться от законной жены“. Столь же просто и скоро, как в делах житейских, вершил он суд и расправу в делах общественных, приказывая мяснику публично отрубить руку проворовавшемуся казначею, с видом знатока судил обо всем на свете, даже о помидорах и о почве, на которой они выросли; распробовав помидор с чьего-либо огорода, он авторитетно заявлял сопровождавшим его агрономам: „Этой почве недостает навоза, и не какого-нибудь там, а помета ослов. Не ослиц! Я распоряжусь, чтоб завезли за счет правительства!“ И со смехом шел дальше».
«Он заглянул ко мне в окно и сказал весело: „Ага, это ты, Лоренса Лопес! Как работает твоя швейная машина?“ Эту машину он подарил мне лет двадцать назад, и я сказала, что она давно скончалась, что тут уж ничего не поделаешь, ничто не вечно – ни люди, ни вещи. Но он сказал, что я ничего не понимаю, что мир вечен, вошел в дом и принялся разбирать машину при помощи отвертки, заливать в нее из масленки машинное масло и совсем позабыл о своей свите, которая ожидала его на улице. Он возился с машиной долго, иногда тяжело отдувался, сопел, как бык, перемазался весь машинным маслом, даже лицо у него было перемазано, но часа через три машина заработала как новая!» Вот как это было в те времена, когда он не видел разницы между самым пустячным житейским делом и делом государственной важности, решал их с одинаковой серьезностью и упорством, в те времена, когда он искренне верил, что счастье можно подарить людям, а смерть обмануть при помощи солдатской смекалки. И вот – дряхлый старец! И никак не верилось, что этот дряхлый старец – тот самый человек, чья власть была столь велика, что, если он спрашивал, который теперь час, ему отвечали: «Который прикажете, мой генерал!» – и, действительно, он вертел сутками, как хотел, приказывал считать день ночью, а ночь – днем, если это было ему нужно и удобно, и переносил со дня на день обязательные праздники, так составлял их календарь, чтобы его появление в том или ином районе страны совпадало с каким-либо праздником, чтобы на тот же самый праздник он поспел и в другом месте; везде и всюду он появлялся в сопровождении своей тени – босого индейца, вооруженного мачете, в сопровождении своих горемычных сенаторов, с великолепными бойцовыми петухами в деревянных клетках, петухами, готовыми ринуться в бой против самых отчаянных петухов любого селения; в каждом селении непременно устраивались петушиные бои; он громко заключал пари со зрителями, делая ставку на того или иного петуха; от его странного хохота, похожего на барабанную дробь, дрожал помост гальеры, хохот этот заглушал музыку и хлопки ракет, потому что все мы должны были хохотать вместе с ним, молчать, страдая, когда он молчал и переживал, взрываться бурными овациями, когда его петухи одерживали победу над нашими, которые были настолько искусно приучены терпеть поражение от его петухов, что ни разу нас не подвели, если не считать того случая, когда лихой петух Дионисио Игуарана в стремительной неотразимой атаке заклевал насмерть сизого петуха высокого гостя; все замерло, но генерал поднялся со своего места и направился к Дионисио, пожал ему руку и сказал: «Хвалю, ты настоящий мужчина!» Он был в хорошем, просто превосходном настроении, и ему ничего не стоило похвалить Дионисио, он был ему даже благодарен за острое ощущение и спросил: «Сколько ты хочешь за этого красного петуха?», – на что Дионисио Игуаран робко ответил: «Этот петух ваш, господин генерал, возьмите его»; толпа наградила Дионисио рукоплесканиями, когда он, сопровождаемый грохотом музыки и взрывами петард, отправился домой, показывая всем шесть прекрасных породистых петухов, подаренных ему взамен непобедимого красного; но той же ночью Дионисио Игуаран заперся в своей спальне, выпил целую бутыль тростникового самодельного рома и повесился на веревке от гамака, бедняга, потому что слишком хорошо знал, какие бесчисленные беды и несчастья подстерегают отмеченного высокой милостью человека; сам же генерал не давал себе отчета в том, что вслед за его радостным появлением, по окончании его визита, на людей сыплются несчастья, что за ним тянется кровавый след убийств «нежелательных лиц»; он не задумывался о вечном проклятии, которое становилось уделом его приверженцев, попавших в беду из-за того, что он по ошибке назвал их не так, как следовало, да еще в присутствии своих услужливых наймитов, которые истолковывали ошибку, обмолвку как команду начать преследование ни в чем не повинных людей. Он бродил по всей стране странной походкой армадильо, заросший, провонявший едким потом, и мог внезапно появиться в любом доме, в любой кухне, заставляя обитателей дома дрожать от страха при виде этого вроде бы безобидного странника; а он зачерпывал тотумой воду из глиняной кадки, пил, утоляя жажду, а то подходил к кастрюле и рукой доставал из нее куски мяса и насыщался, такой уж свойский, такой уж простой, что становилось жутко, хотя сам он и не подозревал, что отныне на этом доме вечно будет стоять отметина его посещения; он вел себя так просто отнюдь не из политического расчета, отнюдь не потому, что жаждал любви и признания, как это было в более поздние времена, а потому, что и впрямь был прост, был таким, каким был, и власть еще не была засасывающей трясиной, какой она стала в годы его пресыщенной осени, а была бурным потоком, который у нас на глазах вырвался из первозданных глубин; не власть повелевала им, а он повелевал властью, и стоило ему указать пальцем на деревья, которые должны были плодоносить, как они плодоносили, на животных, которые должны были дать приплод, как они его давали, на людей, которые обязаны преуспевать, и они преуспевали; он мог прекратить дождь в тех местах, где он мешал урожаю, и заставить его пролиться над засушливыми землями. «Я это знаю, потому что я сам видел это, сеньор!» Легенда о нем сложилась задолго до того, как он достиг абсолютной власти и сам поверил в то, что он ее достиг, сложилась еще в те годы, когда он безоглядно верил в предсказания и толкования страшных снов, когда он мог прервать только что начатую поездку из-за того, что вещая птица пигва запела, пролетая над его головой, перенести на другой день свою встречу с народом из-за того, что его мать, Бендисьон Альварадо, обнаружила в курином яйце два желтка: а однажды он отказался от своей свиты, от сопровождавших его повсюду сенаторов и депутатов, которые обычно произносили за него речи, ибо он не осмеливался их произносить, отказался потому, что накануне очередной поездки увидел себя в кошмаре дурного сна в каком-то огромном пустынном доме, где его окружили со всех сторон бледные мужчины в серых сюртуках, вооруженные ножами для разделки мяса; осклабясь, они кололи его этими ножами, и как он ни увертывался, куда ни поворачивался, повсюду его встречали острия ножей, готовых поранить ему лицо и выколоть глаза; он чувствовал себя загнанным зверем в окружении этих бледных, молчаливых, странно улыбающихся убийц, которые никак не могли решить, кто из них нанесет ему последний удар, кто завершит обряд жертвоприношения и первым напьется его крови; но он уже не чувствовал ни страха, ни злобы, а лишь огромное облегчение, которое охватывало его все больше и больше по мере того, как жизнь уходила из тела; он стал невесомым, на душе было так покойно и ясно, что он тоже улыбался, улыбался своим убийцам и своему собственному уделу; и вот, наконец, некто, кто был в этом сне его сыном, пырнул его ножом в пах, выпустил из него последний воздух, и кровь брызнула на белесые стены этого дома, на белесые стены кошмара. «И тогда я закрыл свое лицо пропитавшимся кровью пончо чтобы те кто не признал меня живым не опознали меня мертвым и упал на пол и предсмертные судороги охватили мое тело». Сон был настолько реальным, что он не удержался и тотчас пересказал его своему земляку, министру здравоохранения, а тот усугубил мрачное состояние его духа, сказав напрямик, что такая смерть уже описана в истории человечества: «Точно такая, мой генерал!» И министр здравоохранения взял пухлый, с подпалинами, том генерала Лаутаро Муньоса и прочитал один эпизод, в котором описывалась такая смерть, подобное убийство. «Точь-в-точь как в моем сне мать! Слушая я вспомнил все вплоть до позабытых подробностей вроде той что проснувшись после того сна увидел как сами собой без малейшего ветра отворились во дворце все двадцать три окна а ведь в том сне мне нанесли ровно двадцать три раны. Какое жуткое совпадение!» Совпадения на том не кончились, сон оказался в руку, ибо на той же неделе было совершено бандитское нападение на сенат и на верховный суд при равнодушном попустительстве вооруженных сил: нападавшие разрушили до основания нашу национальную святыню – здание сената, в котором герои борьбы за независимость провозгласили некогда суверенитет нашей нации; пламя пожара бушевало до поздней ночи, его хорошо было видно с президентского балкона, однако президента нимало не опечалила весть, что от исторического здания не осталось даже фундамента, что саму память об этом здании кто-то постарался вырвать с корнем; нам было обещано примерно наказать преступников, которые так никогда и не были найдены, и воздвигнуть точную копию Дома Героев, чьи руины сохранились до нынешних дней. Что же касается сенаторов и служителей правосудия, то он и не думал утаивать от них дурные предзнаменования своего сна, а напротив, был рад случаю, оправдывая свои действия полученным во сне предостережением, разогнать законодателей и разрушить судебный аппарат старой республики; он осыпал сенаторов, депутатов и верховных судей (в которых перестал нуждаться, ибо не нуждался в подтверждении законности своей власти) почестями и наградами, сделал их богатыми людьми и назначил послами в благодатные далекие страны, оставив при себе в качестве своей верной тени босого молчаливого индейца, вооруженного мачете; тот индеец не покидал его ни на миг, первым пробовал его воду и пищу, следил, чтобы никто не приблизился к нему сверх установленной дистанции. «Этот индеец стоял у моей двери, пока президент проводил у меня несколько часов. Болтали, что президент мой тайный любовник, хотя на самом деле он посещал меня два раза в месяц, чтобы я гадала ему на картах. Это тянулось много лет, все то время, пока он еще считал себя смертным, пока его еще мучили сомнения, пока он еще признавал, что может ошибаться, и верил картам больше, нежели своему дикому инстинкту. Обычно он приходил ко мне напуганный чем-либо и постаревший от страха, такой, каким он предстал передо мной впервые, когда молча протянул ко мне свои руки, свои круглые ладони, туго, как жабий живот, обтянутые гладкой кожей, – никогда прежде и никогда потом я не видела таких рук, никогда за всю мою долгую жизнь предсказательницы судеб! Он положил обе руки на стол с выражением немой мольбы и отчаяния, я видела, что его гнетет глухая тревога и неверие в себя, что он лишился мечты и надежды, и меня поразили тогда не столько его руки, сколько его безмерная тоска и одиночество. Я пожалела его бедное сердце, сердце старика, измученное сомнениями, и стала ему гадать, но его судьба оставалась для меня непостижимой, наглухо скрытой. Ничего невозможно было узнать ни по его ладоням, ни другими способами гадания, которыми я владела, потому что, как только он снимал колоду, карты становились темней воды во облацех, кофейная гуща в его чашке превращалась в мутную взвесь. Ничего невозможно было узнать о нем лично никакими способами, зато, гадая ему, нетрудно было совершенно отчетливо увидеть судьбу связанных с ним, близких ему людей. Так, я отчетливо увидела его мать, Бендисьон Альварадо, и показала ему, как она в далеком будущем, находясь в таком преклонном возрасте, что глаза ее слепнут, раскрашивает каких-то неведомых птиц, раскрашивает, не различая цветов, и он сказал: „Бедная мама!“ А в другой раз мы увидели, гадая, наш город, разрушенный таким свирепым циклоном, что женское имя циклона звучало как чудовищная насмешка. А однажды мы увидели мужчину в зеленой маске и со шпагой в руке, и президент с тревогой спросил, где этот человек пребывает, и карты ответили, что по вторникам этот человек находится близко от президента, ближе, чем в другие дни недели, и он сказал: „Ага!“ – и спросил, какого цвета глаза у этого человека, и карты ответили, что один глаз у него цвета гуарапо, цвета вина, если рассматривать его на свет, а другой глаз его темен, и он сказал: „Ага!“ – и спросил, каковы намерения этого человека. И я не удержалась и сказала ему правду, всю правду, явленную мне картами, – я сказала, что зеленая маска означает предательство и вероломство, а он вскричал торжествующе: „Ага! Я знаю, кто это! Знаю!“ Этим человеком оказался полковник Нарсисо Мираваль, один из его ближайших помощников, который через пару дней выстрелил из пистолета себе в ухо и даже не оставил никакой записки, бедняга…»
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Осень патриарха - Габриэль Гарсиа Маркес», после закрытия браузера.