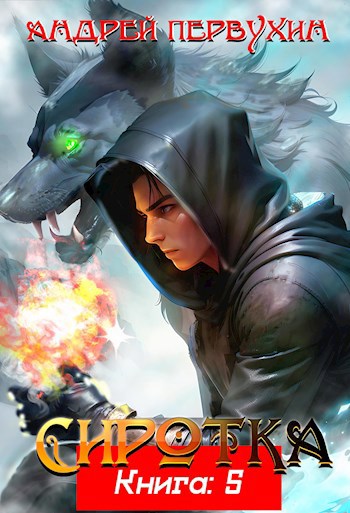Читать книгу "Вода и грёзы. Опыт о воображении материи - Гастон Башляр"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Итак, по нашему мнению, в поэтическом творчестве присутствует некий условный рефлекс, рефлекс необычный, ибо у него три корня: в нем объединяются впечатления зрительные, слуховые и речевые. Радости же самовыражения свойственно такое богатство характеристик, что в пейзажах запечатлеваются ее доминантные «лады», ее выражения в звучащей речи. Голос проецирует видения. И тогда уста и зубы порождают разнообразные зрелища. Кисти рук и челюсти зачинают пейзажи… Есть пейзажи «губовидные»[447], нежные, прекрасные, удобопроизносимые… В частности, если бы можно было объединить в одну группу все слова с плавными фонемами, совершенно естественно получился бы водный пейзаж. И наоборот, поэтический пейзаж, выражающийся гидрирующей психикой, глаголом вод, совершенно естественно обретает плавные согласные. Звук, живой и естественный, т. е. голос, расставляет вещи в соответствии с их иерархией. Над изобразительным даром истинных поэтов властвует голосоведение. Мы попытаемся привести хотя бы один пример голоса, определяющего сущность поэтического воображения.
Вот, например, когда я слушаю шум ручьев, мне начинает казаться абсолютно естественным, что во многих стихах в ручьях цветут лилии и гладиолусы. Проанализировав этот пример немного пристальнее, приходишь к пониманию победы словесного воображения над визуальным, или же, просто-напросто, – победы творческого воображения над реализмом. И становится понятной поэтическая инерция этимологии.
Гладиолус[448] получил свое название – визуально и пассивно – от меча (glaive, есть русское слово «шпажник». – Прим. пер.). Этим мечом не «орудуют», он не режет, и остриё у него весьма тонкое и великолепно обрисованное, но столь хрупкое, что даже не колет. Форма его, как и цвет, не принадлежит сфере водной поэзии. Этот пронзительный цвет – горячий, это адское пламя; гладиолус в некоторых краях так и называется: «адское пламя». Наконец, его не так-то просто разглядеть, когда смотришь вдоль ручья. Но если ты поёшь, то неправым всегда будет реализм. Физическое зрение перестанет командовать, а этимология – думать. И вот у слуха тоже пробуждается страсть к именованию цветов; слух хочет, чтобы все, чье цветение слышит ухо, цвело бы и взаправду, цвело бы в языке. Да и плавность течения тоже стремится показать кое-какие образы. Так вслушайтесь же! И тогда гладиолус станет каким-то особым вздохом реки, и мы синхронно с нею вздохнем, и легкая, легчайшая печаль выйдет из нас, утечет прочь, и больше никто никогда не назовет ее по имени. Гладиолус – это полутраур навевающей грусть воды. И в памяти всплывает и отражается отнюдь не пронзительный цвет, а легкое рыдание, уходящее в даль забвения. И «плавные» слоги смягчают и уносят с собой образы, задерживающиеся лишь миг над стародавним воспоминанием. Они придают печали немного текучести[449].
А как иначе, если не поэзией водных звуков, объяснить то, что столько потонувших колоколов[450], колоколов, оставшихся лежать на речном дне, все еще звонят; столько золотых арф все еще придают какую-то силу притяжения голосам зеркальной глади вод! В одной немецкой песне, приводимой Шюре[451], возлюбленный девушки, которую похищает водяной, тоже начинает играть на золотой арфе[452]. Водяной[453] постепенно покоряется этой гармонии и возвращает жениху суженую. Чары преодолевают чарами, музыку – музыкой. Так и движется очарование[454] в диалогах…
Точно так же у смеха вод совершенно нет сухости, и для того чтобы передать его, словно звук каких-то обезумевших колоколов, требуются звуки «цвета морской волны», ибо в них звучит некая прозелень. Вот и лягушка по самой своей фонетике – здесь имеется в виду единственно верная фонетика, это фонетика воображаемая – существо водное[455]. Кроме того, она зеленая и в народе не зря называют воду «лягушачьим сиропом»: ведь тот, кто ее пьет, – простофиля! (здесь игра слов grenouille – Gribouille)[456].
И какая же радость услышать и познать – после «а» бурь, после грохота аквилонов[457] – «о» воды, смерчи и прекрасную округлость ее звуков! Вновь обретенная веселость столь велика, что слова меняются местами, словно безумные: ручей журчит, а «журчей» «ручит».
Если вслушаться в смерчи и вихри, если изучать и крики, и карикатурное журчание водосточных труб, поиски всех дублетов воображаемой фонетики вод не кончатся никогда. Чтобы выплюнуть грозу, будто обиду, чтобы изрыгнуть оскорбления, нанесенные воде горлом[458], водосточным трубам понадобилось придать чудовищные формы: все они подобны глóткам[459], губастые, несуразные, зияющие. Водосточная труба непрерывно подсмеивается над потопом. Перед тем же, как стать образом, водосточная труба была своего рода звуком, или, по меньшей мере, таким звуком, который сразу же нашел свой образ в камне.
В муках и радостях, в суете и в покое, в насмешках и жалобах, родник – это, как сказал Поль Фор, «Слово, становящееся водами»[460]. Кажется, что у воды «слюнки текут». Ну зачем тогда молчать; в конце концов все блаженства – от «влажного языка»[461]. Но как тогда понимать некоторые формулы, где подчеркивается глубокая сокровенность всего влажного? Например, в одном из гимнов Ригведы сравнению моря с языком посвящены целых две строки: «Грудь Индры[462], возжаждавшая сомы, должна быть всегда наполненной: так, море всегда вздувается от воды, а язык – непрестанно увлажняется слюною»[463]. Жидкое состояние – один из первопринципов языка: в действии язык должен вздуваться от вод. С тех пор как люди обрели дар речи, по выражению Тристана Тцара[464], «тьмы бурных потоков наводнили пораженные засухой уста»[465].
Но великой поэзии не бывает и без длительных периодов разрядки и замедления; великих же поэм – без молчания. Следовательно, вода – еще и образец покоя и тишины. Дремлющая и молчаливая вода, как сказал Клодель, заливает пейзажи «песнословными озерами». Подле нее поэтичность углубляется и обретает большую значительность. А живет вода – словно великое материализованное молчание. Недаром у родника Мелисанды Пеллеас шепчет: «Тут всегда необычная тишина… Слышно, как спит вода» (акт I). Похоже, для того чтобы как следует понять тишину, душе нашей необходимо увидеть нечто молчащее; ведь, чтобы увериться в покое, ей необходимо ощутить подле себя некое гигантское природное дремлющее «существо». Метерлинк работал на границе поэзии и молчания, пользуясь минимальными голосовыми средствами – и звучностью спящих вод.
IIУ воды есть и косвенные голоса. Природа оглашается онтологическими отзвуками. Существа отвечают друг другу, подражая голосам стихий. Из всех стихий
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Вода и грёзы. Опыт о воображении материи - Гастон Башляр», после закрытия браузера.