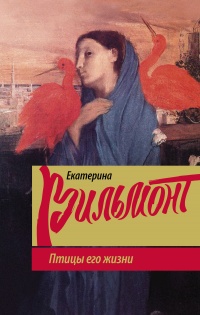Читать книгу "Юби: роман - Наум Ним"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Усе в мире связано, – осадил Федор Андреевич завхоза. – Я такие умные слова слыхал, что если в Японии бабочка крылом…
– Знаем-знаем, – обрадовался Алексей Иванович, – а потом воробушек прыг, значит, прыг сабе… Это из кино, а не из умных слов.
– Я про другую бабочку, – утихомирил Федор Андреевич электрика. – Так вот, если она в Японии своим крылышком брякнет, то на Америку цунами грохнет. Ну или наоборот: бабочка в Америке, а цунами в Японии. Во как все друг с дружкой повязано и друг от дружки меняется. – Директор еще раз поднес к носу непочатый стакан, нюхнул и решился – не чокаясь. – А вы говорите… – выдохнул он самогонным смрадом.
– Это у их там, в Америках и Япониях, все меняется одно от другого, – завозражал Степаныч. – А у нас ничога не меняется. Хоть атомную бомбу на нас взорви – усе будет, как и было: очухаемся, отстроимся, поизбираем сабе таких же упырей в правители и заживем по-старому…
– А хотя бы и так, – неожиданно согласился Федор Андреевич. – Тем более пора возвращаться к привычной работе, – вывернул он к тому, с чего начал.
– Это же какую силу воли надо над собой учинить, чтобы отставить наше горе в сторону? – взялся сокрушаться Алексей Иванович.
Степаныч повернулся утешать коллегу.
– Если над собой усилиями себя не совершать, то и человеком можно перестать остаться, – закрутил он штопором какую-то свою мысль и тут же взялся раскручивать обратно: – Это я к тому, что без усилиев человек может и в скотину… Иногда глаза разлепить апосля вчерашнего и то требует усилий. А если не разлеплять, а остаться лежать сиднем, то можно свинья свиньей…
Григорий не включался в эти беседы. Иногда он не слышал и вовсе, о чем говорят собутыльники, – будто кто-то властный и могущественный выключал звук, а люди продолжали шевелить губами, жестикулировать и безуспешно доказывать один другому свою немую правоту. Но слова Степаныча о необходимости усилий его зацепили.
«И верно ведь, – подумал он. – Только чтобы остаться человеком – не стать лучше, не стать умнее или добрее, а просто остаться человеком, – только это требует постоянного труда…»
Федору Андреевичу надо было срочно переходить от уговоров и увещеваний к сугубо отечественным способам управления хозяйством. Без этого хозяйство начинало сбоить по всем сторонам.
«Правильно сказал Степаныч, хоть и сболтнул спьяну, – думал Федор Андреевич. – Мы сами воспроизводим свою власть и все механизмы еённых над нами злодейств. А я вам тута кто? Я вам и есть власть…»
* * *
Интернатовские дамы тоже горевали по Льву Ильичу, хотя, конечно же, совсем не так, как их коллеги-мужчины. Теть-Оль, например, забыла устраивать свою женскую судьбу и даже, можно сказать, махнула на себя рукой. На работу она приходила с опухшим от слез лицом и измятыми губами, да и делала она все машинально, на автомате.
– Как-то ты стала невкусно готовить, – решилась Ирина Александровна на правах старой подруги сделать замечание поварихе, уводя своих семиклашек с завтрака.
– И порции очень маленькие, – поддакнул Махан из-за спины воспитательницы.
Ольга Парамоновна и ухом не повела на такие инвективы в свой адрес – даже и не услышала.
– Дай сигаретку, – попросила она Ирину. – Куда-то свои затеряла – найти не могу.
Махан с независимым видом быстренько слинял с глаз долой.
– Держи! – Ирина протянула пачку. – Я тебя без сигареты уже и не помню, – сказала она. – Курение тебя убьет.
– Мне бы до этого дожить…
Наверное, Ирина совершенно напрасно выговаривала теть-Оле. Она и сама работала примерно так же. Приходила, отбывала, а дети, как верно заметил Федор Андреевич, оставались неприкаянными и даже забыли про «ходить хором».
Накануне того давнего и проклятого пятничного вечера, когда увезли Льва Ильича, Ирина взяла у него почитать стихи начала века. Ранее она стихи не читала да и не любила, но по совету Йефа взяла, а после его исчезновения и вчиталась, можно сказать, присосалась, как другие, бывает, к рюмке.
Она и в рабочие часы не закрывала книжку и, чтобы совместить свой стихотворный запой с воспитательными обязанностями, читала эти же стихи детям. Они старались пристойно слушать, но не выдерживали и разбегались по более важным делам. Однако совершенно неожиданно это насильственное кормление поэзией принесло диковинные плоды.
Муравей решил, что и он может научиться говорить стихами. Долго бродил один с гибким прутом, которым отхлестывал ритм своих творений по стволам деревьев или по чему ни попадя. Наконец, все у него сложилось, и он предложил одноклассникам странную игру, которая как-то вдруг затопила всю школу.
Игра была такая простая и такая идиотская, что трудно было не подхватить эту заразу своим участием. Правила простые. Первый играющий подходит ко второму (на самом деле – к любому) и говорит, например, так:
«Скажи: “Веревка”».
У второго два варианта на выбор. Если он не знает ответ, то должен сказать, что требует первый.
«Веревка», – говорит он.
«Твоя матка воровка», – лепит в него первый играющий и отходит с видом победителя.
Второй играющий, стало быть, утирается и понуро бредет прочь, потому что это не просто обвинение, а обвинение в стихах, и поэтому оно неоспоримо, как государственная бумага с гербовой печатью.
Но может быть и другой вариант: второй играющий знает ответ и сам говорит первому, что у того матка воровка. Тогда уже первый отходит в унынии и тоске, несмотря даже на то, что у него нет матки – ни воровки, ни какой другой. Этой вот дурью в считанные недели заразилась вся школа и до самых зимних холодов можно было слышать со всех сторон:
– Скажи: «Утка»…
– Скажи: «Хор»…
– Скажи: «Рак»…
Муравей выдумывал все новые рифмы и вбрасывал их в игру на ходу, сразу став признанным поэтом. Со всеми спорами в игре обращались к нему. Махан помирал от зависти.
Он целый день бродил в стороне от шума и веселья всей школы, но сочинил свой стих и после ужина подошел к Муравью.
– Скажи: «Чайник», – начал он игру.
Муравей долго шевелил губами, пытаясь сымпровизировать неведомый ему ответ, и наконец сдался:
– Чайник.
– Твой батька – начальник, – победно врезал Махан.
Муравей отползал совершенно раздавленный (это еще хуже, чем «матка воровка»), а Махан сразу же решил, что вырастет и станет настоящим поэтом, а потом приедет сюда и всем-всем расскажет, кто они на самом деле и кто их родственники до десятого колена. Расскажет, разумеется, в стихах, чтобы припечатать так припечатать – с рифмами и навсегда…
Махан ходил и мечтал, пока не натолкнулся на Муравья.
– Скажи: «Звезда», – потребовал Муравей…
* * *
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Юби: роман - Наум Ним», после закрытия браузера.