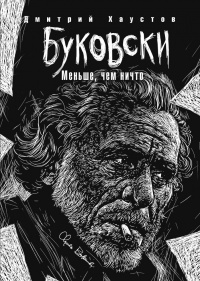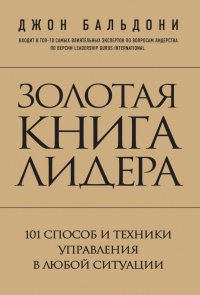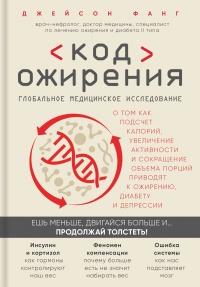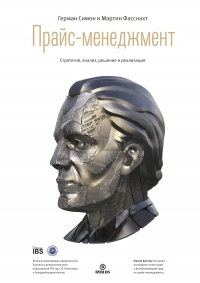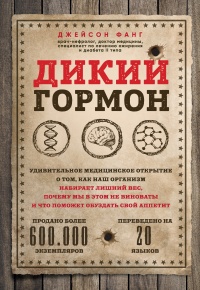Читать книгу "Лекции по философии постмодерна - Дмитрий Хаустов"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Хабермас, как и мы, в вопросе о модерне сразу же упирается в Гегеля. По сути, именно Гегель для Хабермаса является родоначальником всего философского дискурса о модерне: внимание, родоначальником не самого по себе модерна, но именно дискурса о модерне. То есть именно Гегель первым начал проблематизировать модерн как модерн, именно он впервые увидел в модерне проблему и поставил модерн под вопрос. Гегелевская философия – не просто наивное продолжение модерна как историко-философского проекта, но это саморефлексия модерна, принципиально новый этап, когда модерн в себе как бы раздваивается: на то, что мыслит (субъект), и на то, что мыслится (объект). У Гегеля мы, таким образом, обнаруживаем два модерна: философскую рефлексию и ее предмет. Именно Гегель впервые ограничил модерн рамками Нового времени – времени принципиально новаторских движений во всех областях человеческой жизни. Эти движения, конечно, лучше, сильнее, важнее всех старых. Здесь к месту вспомнить о собственно гегелевской истории философии, которая, как мы знаем, отличается своей вопиющей (как нам сейчас кажется) линейностью и тем подчеркнуто завершающим, подводящим итог характером, который свойствен для всего гегелевского проекта. Гегель подходит к истории философии с позиции завершителя, он претендует на то, что его собственная мысль окончательно закрывает философию как таковую, снимает ее в свете мудрости, окончательного и абсолютного знания. Гегель – уже не философ, Гегель – мудрец. Следовательно, философия больше не нужна, ибо она достигла того, к чему стремилась – она достигла софии. Спасибо Гегелю – все это значит, что модерн и правда взирает на самого себя исключительно в перспективе конечности и завершения, он очень хочет закрыть все пути, которые ранее были открыты. Гегель претендует на титул мудреца, Наполеон претендует на титул императора вообще всего, физико-математическое естествознание претендует на абсолютно адекватное познание реального мира, искусство претендует на достижение мифологической полноты эстетической интуиции – и так далее. В модерне все все завершают, это эпоха, одержимая манией всюду и везде поставить жирную точку.
Теперь возвращаемся к гегелевскому раздвоению личности. Да, он тщится завершить модерн – как объект. Но как субъект он сам рефлексирует эту страсть к завершению, он сам же ее проблематизирует и ставит под вопрос. Отсюда следующий тезис Хабермаса: философский дискурс о модерне, начавшийся в пределах гегелевской философии, так и не покидает этих пределов. То есть вся послегегелевская философия, ведущая дискурс о модерне, на самом деле не покидает рамок гегелевской мысли, потому что в этой мысли именно через ее раздвоение задана вся полнота вопроса: стремление к объективной завершенности знания и одновременное субъективное сомнение, данное как проблема. И если все обстоит действительно так, то модерн – это незавершенный проект, хотя вместе с тем и проект, одержимый своим завершением. Тогда постмодерн – это попросту блеф, пытающийся всеми силами (как правило, чисто языковыми и софистическими) скрыть свое врожденное гегельянство. Это не более чем очередной бунт детей Гегеля против самого Гегеля – причем самыми что ни на есть гегелевскими средствами.
В самом деле, основные черты философии Гегеля позволяют нам хотя бы помыслить эту ее оригинальную двойственность. Именно Гегель в поисках абсолютного знания – а искали его и Бэкон, и Декарт, и Спиноза, и многие прочие – основополагающим моментом в этих поисках выделил противоречие, диалектику тезиса и антитезиса. Это значит, что Гегель в основу своей философии положил несогласие, спор, разноголосицу, которая и выступает поистине движущей силой всякого знания. Выходит, нет ничего странного в том, что сам Гегель всюду и везде себе же противоречит – таков самый принцип его философии. Двойственность Гегеля – не прискорбный результат его непоследовательности, но, напротив, высшая манифестация его интеллектуальной честности и аккуратности. Это гораздо больше, чем базовое картезианское сомнение. Декарт сомневался, прекрасно зная, чем все это кончится – усиленным утверждением несомненного тождества, ибо я это я, а Бог не обманщик. Для Гегеля это нечистый трюк: сомнение ничего не стоит, если оно не вскрывает в действительности новые и новые узлы противоречий. Иначе говоря, остановить сомнение – значит перестать философствовать. При этом, конечно, сам дух сомневающейся субъективности был угадан Декартом более чем верно – это, по Гегелю (в хабермасовском платье), основополагающий принцип модерна. Однако – не просто субъективность, но субъективность, понятая как субстанция, что для Декарта, как мы понимаем, какой-то нонсенс. Субстанция, разумеется, абсолютна и завершена в самой себе, субъективность, напротив, отрицательна, рефлексивна и принципиально не завершена.
Исходя из ориентации на субъективность, которая лежит в основании модернистского проекта, мы можем вывести следствия, уже нам известные: это индивидуализм, характерный для человека Нового времени, это важнейшее право на критику (на сомнение), которой пропитана философия модерна, – словом, мы получаем проект Просвещения, составляющий самую сердцевину модерна. Свобода субъективной рефлексии открывает нам ценнейшую возможность критиковать (то есть подвергать отрицанию) все и вся, тем самым эмансипироваться от лживости непродуманных мнений. Это и значит, в соответствии с проектом Просвещения и, в частности, с Кантом, становиться совершеннолетними – выходить из состояния рабского неумения пользоваться своим собственным умом. Субъект просвещения и критики становится, стало быть, автономным субъектом – таким, который основывает свое поведение только на себе самом. Такая субъективная автономия – еще одно важное завоевание модерна, чище всего эксплицированная в этике Канта, где речь идет, собственно, о свободе поступка, понятой как абсолютная непривязанность актора к каким-либо внешним условиям (свобода есть независимость от материи). Все перечисленное составляет предмет и одновременно следствие из философии идеализма – или абсолютного идеализма в версии Гегеля, – которая и представляет собой модернистский проект, данный в своем отношении к мышлению (а без отношения к мышлению, как видно, этот проект невозможен).
С этого момента мы оказываемся на знакомой и хоженой территории, потому что мы помним, что именно основополагающая категория модернистского субъекта – это главная мишень постмодернистской критики. Настолько подробно, насколько могли, мы разобрали атаки на классического субъекта у Барта, Фуко, у Бодрийяра и Деррида, у Делеза и даже у Маршалла Маклюэна. Мы выучили как мантру, что субъект умирает, автор умирает, человек умирает. Все линии этой атаки могут быть, весьма условно, сведены к тому тезису, что прозрачность субъекта для самого себя, служащая необходимым условием для его рефлексивности, критики и автономии, является иллюзией – эффектом структуры, эффектом языка, или определенных социальных систем, или работы желания, тела и восприятия. Главное – то, что субъект не покоится на самом себе как на твердом своем основании, он зависит от множества сил, которые для него не прозрачны, которые вертят и крутят его, как игрушку. Задача философов постмодерна, таким образом, и состоит в том, чтобы вскрыть эти механизмы не-подлинности и не-прозрачности, работающие в самом основании классической субъективности и обрекающие великие чаянья высокого модерна на разве что идеологический, мифологический, в общем, на метанарративный статус. Дело обстоит не так, что автономный субъект силой критики деконструирует идеологию как фальшивку, миф как ложь. Дело обстоит как раз так, что автономия сильного критикой субъекта – это идеология как таковая, это, пусть будет так, модернистский миф мифа, самый большой рассказ из всех, которые можно было придумать в истории человечества.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Лекции по философии постмодерна - Дмитрий Хаустов», после закрытия браузера.