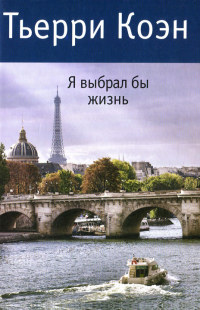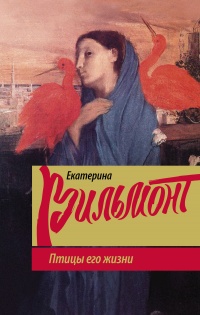Читать книгу "Автохтоны - Мария Галина"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– А композитор? О нем что-нибудь известно?
Пахло пудрой, мастикой, гнилой водой в цветочной вазе. Шпет когда-нибудь проветривает комнаты?
– Ковач, о да! Он известен. Вернее, был бы известен, – Шпет нервно потер руки, – но умер молодым. Очень молодым. Тогда все умирали молодыми. Практически гений. Но больше не писал для театра. Так что я…
– Понимаю. А костюмы и декорации? Вот, написано. Баволь, Кароль Баволь.
– Баволь, – пробормотал Шпет. – Баволь. Что-то знакомое, но не помню, право. С театром он тоже больше не работал. Это точно.
– А, скажем, музей? Краеведческий? Или художественный? Как вы полагаете?
– Может быть, – неуверенно сказал Шпет. – Хотя, у них площади маленькие. Разве что в запасниках. Но в запасники вас вряд ли пустят.
– Даже если я сошлюсь на вас? Но почему?
– Потому что там все в ужасном состоянии и им стыдно! – сердито сказал Шпет. – Там все ценное растащили еще в девяностые. А что не растащили, то сгноили. У них трубу прорвало. Мне Воробкевич говорил. О, постойте! Воробкевич, точно. Он вроде меня, Воробкевич. Собиратель. Хранитель. Ну конечно, это вам к Воробкевичу надо.
– Спасибо. Душевно благодарен. Я могу сослаться на вас?
– Да. Разумеется. Я сам ему позвоню. Рекомендую.
– Конечно! Это еще лучше. Это просто замечательно.
Окно гостиной выходило в узкий двор-колодец, совершенно темный. Тут что, кроме Шпета никто не живет?
– Я отдал театру всю жизнь, – сказал Шпет, – всю жизнь. Сейчас работаю над мемуарами.
Наверное, надо попросить у Шпета почитать мемуары. Шпет, конечно, не даст. Их, скорее всего, и нету, мемуаров, так, наброски. А вдруг есть и вдруг даст? Придется же читать. Он примерно представлял себе, какими могут быть мемуары Шпета.
– Это очень интересно, – сказал он поспешно. – Очень. Но я узкий специалист. Авангард, это… целый континент. Континент! Не могу позволить себе отвлекаться.
– Приятно, что остались неравнодушные люди. – Шпет вздохнул и, показательно кряхтя, распрямился. – Быть может, чаю?
Что будет уместнее, согласиться или отказаться? У Шпета и чая-то, наверное, никакого нет, так, пакетики. Шпет, вероятно, чаю дома вообще не пьет, а спускается вниз, в кафе или кондитерскую. Или кафе-кондитерскую.
– Нет, благодарю вас. Я, знаете, устал с дороги.
Шпет вздохнул с явным облегчением. Он угадал. Никакого чаю у Шпета не было. И в кухню, наверное, Шпет гостей не пускает. У одиноких мужчин на кухне либо очень чисто, либо очень грязно – в любом случае посторонних не жалуют. А Шпет точно одинок – на вешалке в прихожей он видел только пальто Шпета. Только пальто Шпета, ничего больше.
– Но почему? – вдруг сказал Шпет.
Он обернулся. Шпет в атласном своем халате застыл с бархатным альбомом, прижатым к груди. В тусклом электрическом свете высохшие цветы в вазах казались живыми.
– Почему он согласился, Претор? Мало ли, что Знак! Безвестные ведь любители, авантюристы…
– Почему согласился? Потому, что золотой век кончился. В одночасье. И все, чем жил Претор, стало никому не нужным. Хламом, который надо сбросить с корабля современности. Претор ведь для Мариинки ставил. Павлова, Кшесинская… Эти ребята ему обещали высокое искусство, понимаете? И надули.
– Он что, не понимал, что ставит?
– Он думал, что ставит высокую римскую трагедию. Ведь это мог бы быть замечательный спектакль. Он же, в сущности, про отношения порядочного человека с властью. Как себя вести, когда власть омерзительна, а ты достаточно ярок и умен, чтобы пробиться в верха? Чтобы влиять на тирана, чтобы смягчить его нравы, спасти страну от позора. От гибели… От бесстыдства, наглой лжи, когда черное выдается за белое. Что делать, чтобы стать своим? Притворяться вором, если власть ворует? Убийцей, если власть убивает? Развратником, если власть ударится в разврат? До какой степени притворяться? То есть, развратник ли ты, если как бы не отдаешься разврату целиком, не считаешь его развратом, а так, чередой профессиональных обязанностей. К проктологу сходить или, там, кишку глотать ведь не стыдно, правда? Хотя врачи довольно неприличные вещи с человеком проделывают. И ты становишься спецом, асом, законодателем моды, и тиран к тебе прислушивается, к тому же у тебя информаторы, ты знаешь о том, о чем тебе знать не положено, и эти знания используешь. Ради блага государства, между прочим. Но постепенно ты с ужасом видишь, что тебе это начинает нравиться. А потом кто-то шепчет что-то на ухо тирану, и тиран… И тебе ничего не остается, кроме как уйти – достойно и, главное, непафосно, ты же всю жизнь бежал этого пафоса, ты же умный, ты просвещенный, даже циничный где-то, да и смешно, когда человек, внесший в жизнь императора столь тонкие и неожиданные развлечения, начинает вдруг перед смертью говорить о душе и совести… И все на полутонах, на нюансах. А они, дурачки, шпанских мушек насыпали. Ну, вы же худрук бывший, должны знать, что такое громкий спектакль. Попадись вам такое, разве вы упустили бы возможность?
– Думаете, я, – Шпет прижимал к себе альбом с такой силой, что бледные пальцы почти утонули в ворсе, – думаете, я… что мне приходилось кривить душой? Ложиться под власть? Это Любецкий из драматического был всем известной проституткой! «Долги наши» ставил, «Вас вызывает Таймыр», «Любовь Яровую» ставил…
Господи, подумал он, старый дурак решил, что я иронизирую. Упрекаю его в конформизме.
– А у нас – у нас что? Что ставили до Первой мировой, то и при большевиках ставили. «Аиду» ту же самую. «Царскую невесту». «Волшебную флейту». «Жизель» ставили, ну, еще «Весну священную» один сезон, и то потом сняли.
Шпет с достоинством уложил альбом на стопку таких же альбомов и поправил пизанскую башню.
– Вы вот молоды, вам революцию подавай! Вон, авангардом занимаетесь.
– Столетней давности, – напомнил он.
– Да ладно, какая разница! Авангард и есть авангард. Дыл бул щыл какой-нибудь. А консерватизм – это прекрасно, консерватизм не подвержен сиюминутному. Не подвержен конъюнктуре. Никакой пошлости. Пошлость – это то, что на слуху, у всех на устах, а здесь все утверждено раз и навсегда. Все отточено… Как при Петипа было, так и осталось до конца времен.
– Да, конечно, – согласился он, – классика есть классика.
– Вот именно! – горячо сказал Шпет, – вот именно! И в этом было наше спасение. В верности традиции. Знаете, сколько сервильного говна я отклонил? Либретто оперы про хлеборобов. Балет, где Ленин на броневике исполнял па-де-де с этой, как ее… И революционные матросы на переднем плане танцуют яблочко.
– А что, – он на миг задумался, – могло бы получиться красиво. Вот это, с матросами и Инессой Арманд. Вот они пляшут, дуэтом, черные графичные силуэты. С лешачихою покойник. И броневик такой графичный, черный, конструктивистский. А на заднем плане багровое, на все небо зарево. Чудовищное зарево, как у Рериха, ну, понимаете… И огромный всадник в буденовке и на бледном коне. Армагеддон, рушащиеся в закат белые колонны, решетка Летнего сада, вся в огне, гибнущий прекрасный мир, который уже никогда не вернется.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Автохтоны - Мария Галина», после закрытия браузера.