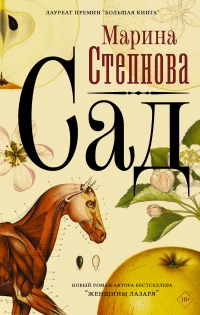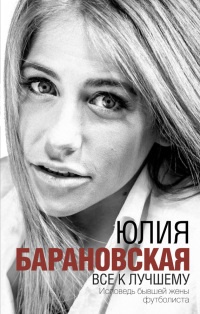Читать книгу "Мертвые - Кристиан Крахт"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Очень скоро внешне преображенный Нэгели выходит из парикмахерского салона и происходит следующее (с. 108–109; курсив мой. – Т. Б.):
…этот пионер метаморфозы, неторопливо спустившись по улице, видит заманчивый, ярко-красный прямоугольник – тории ближайшего парка или святилища, – пружинистым шагом пересекает сей рубеж, какое-то время бездумно прогуливается под ультра-синим небом раннего лета и в конце концов останавливается под уже почти облетевшим вишневым деревом, на бледно-лиловую цветочную крону которого он теперь смотрит, задрав голову и уперев руки в бока.
Механическая птица из искусно раскрашенной жести сидит там, на дереве, на ветке, чистит клювом свою одежду из перьев и щебечет: Фи-ди-бус. Цветок вишни падает, умирая – умирает в падении, – это и есть совершенство.
Это, собственно, и есть разгадка, потому что сакура в японской культуре – очень значимый символ. Вишневый цвет символизирует облака (благодаря тому, что множество цветов сакуры часто распускается разом) и метафорически обозначает эфемерность жизни (Japan, p. 142). Это второе символическое значение часто ассоциируется с влиянием буддизма, являясь воплощением идеи моно-но аварэ (с XVIII века: Slaymaker, p. 122). Мимолетность, чрезвычайная красота и скорая смерть цветов часто сравниваются с человеческой смертностью. И еще о сакуре можно сказать следующее (Григорьева, с. 116):
А Сэами[5] говорит: «У цветка, у интересного и удивительного одно и то же сердце». Однако удивительные вещи стареют, а цветы опадают. «Какие из цветов не опадают? Но, лишь опадая, они вновь расцветают». Сэами хочет сказать, комментирует Хисамацу[6], что характер всего сущего преходящ. «Способность к перевоплощению – цветы опадают, одна вещь переходит в другую – и порождает ощущение удивительности (мэдзурасиса). Получается, что подражание вещам (мономанэ), с одной стороны, это то, что есть (дзицу), с другой – то, чего нет (кё). Если бы цветы не опадали, то и не расцветали бы, такова истина их жизни – залог вечности… Дух ёкёку (пьесы театра Но. – Т. Б.) рождается поиском вечного в человеческой жизни. В этом суть средневековой литературы».
Но в романе Крахта значение сакуры и лилового цвета этим не исчерпывается. Потому что если мы теперь вернемся к самому началу романа, к воспоминаниям Нэгели о детстве, то увидим, что уже там присутствовал образ цветущей вишни (с. 41; курсив мой. – Т. Б.):
Едва заявлял о себе светлый день, едва кто-то раздергивал в комнате зеленые клетчатые шторы – и знакомый сад, и относящиеся к нему тени благодаря проекции этой спасительной камеры обскура начинали подрагивать на детских обоях, а напечатанные на этих обоях, выстраивающиеся в приятной повторяемости ветки и цветы вишневых деревьев удостоверяли успокоительную панораму горизонта его детских переживаний, – как все страхи рассеивались, изгнанные дружественным утренним светом. Ведьмы опять прятались под его кроватку и на протяжении целого дня больше не осмеливались показаться ему на глаза.
Уже после измены Иды, во время странствий Эмиля Нэгели по пустынным областям Хоккайдо, воспоминания о детстве приводят к перерождению его сознания (с. 135–136):
И внезапно он понимает: отец однажды перестал любить его – потому что он, Эмиль, в какой-то момент забрал у него свою руку, поскольку подросшему мальчику, так он подумал, уже не подобает ходить за ручку с отцом. Да, думает он, тогда-то и произошел разрыв между ними, и виноват в этом только он сам, а не его отец, которого, как он сейчас вдруг почувствовал, ему отчаянно не хватает.
Похоже, что в итоге Нэгели достигает некоего просветления (в японском понимании: когда уже нет границы между созерцателем и объектами его созерцания), и символ этой перемены – утопленное велосипедное колесо, которое он видит, вернувшись в родной Цюрих, – символ его освобождения от сансары, колеса бессмысленного бытия (с. 140; курсив мой. – Т. Б.):
Он запирает снаружи дверь, спускается к Лиммату, неторопливо и кротко вытекающему из озера, и довольно долго наблюдает за лебедями, которые – поскольку сейчас поздняя осень – грациозно и орнаментально прячут головы под крыло. В мелкой, прозрачно мерцающей воде у берега он обнаруживает медленно вращающиеся спицы велосипедного колеса. Вдалеке, по ту сторону озера, на юго-востоке, видны покрытые снегом Альпы, а над ними – громоздящиеся и гонимые фёном облака, на которые он часами смотрел, еще когда был ребенком.
Кроткое (sanft) приятие судьбы – не это ли отношение к миру Нэгели, «в конце своей жизни», улавливает в фильме Александра Довженко и воспринимает как близкое себе? «Мы видим перед собой украинские колосья Довженко, цветки которых постепенно и кротко развеиваются под бесшумно прочесывающим поле северным ветром…» (с. 29–30).
В книге есть и другие цепочки образов. Связанных с мученичеством – Святым Себастьяном – зайцем Себастьяном, с которого содрали кожу, – (не названным по имени) Юкио Мисимой, чей персонаж испытывал сексуальное влечение, разглядывая Святого Себастьяна на репродукции, – Учителем Кикучи, которого одиночество облегает, «словно содранная с зайца шкура», – обезображенным (с содранной кожей) лицом покончившей с собой Иды. Или – тех, что ассоциируют пребывание Нэгели в Берлине и его договоренность с руководителем киностудии УФА Гугенбергом с «фаустианским пактом», Мефистофелем, путешествием в мир мертвых на ладье («гондоле») Харона. Я их не буду сейчас подробно рассматривать. Замечу лишь, что они мне представляются конкретизацией основной сюжетной особенности драм театра Но (Анарина, О драме и театре Но, с. 25):
…любая драма Но фактически строится на обыгрывании трех буддийских заповедей: 1) жизнь есть страдание, возникающее из жажды жизни; 2) потворство собственным страстям пагубно; 3) уничтожение страдания – в освобождении от страстей.
Важнее отметить, что выделенная Т. П. Григорьевой характерная черта японской эстетики – «в каждом моменте сознания будет присутствовать весь его временной ряд с настоящим, прошедшим и будущим» – буквально воплощена в этом романе Крахта (а частично уже и в предыдущем, в «Империи») на уровне синтаксиса. В одной фразе часто соседствуют разные времена, благодаря чему развязку романа – итог судьбы Эмиля Нэгели – мы узнаем уже где-то в начале (с. 41–42):
И еще, пока он так лежал (в детстве. – Т. Б.), он обнаружил – на среднем отдалении или еще дальше – одно совершенно особенное дерево, которое позже, на протяжении жизни, ему предстояло видеть вновь и вновь; он потом находил его не только в Швейцарии, но и на немецком побережье Балтийского моря, в Итальянском Сомали, в Японии и Сибири, и лишь гораздо позднее, в последней трети жизни, осознал, сидя в этот момент на толчке какой-то уборной, что такое же дерево он увидит в момент своей смерти – не в состоянии помрачения, как его отец, но отчетливо, и при полном сознании, и с ощущением счастья.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Мертвые - Кристиан Крахт», после закрытия браузера.