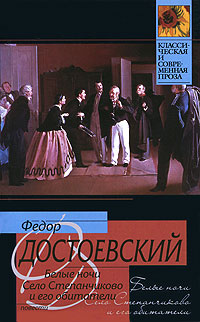Читать книгу "Записки из мертвого дома - Федор Достоевский"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Немец удивился, однако ж опомнился.
– Я вас не боюсь, говорит, и прошу вас, как благородныйчеловек, вашу шутку сейчас оставить, а я вас совсем не боюсь.
– Ой, врешь, говорю, боишься! – а чего! сам головы из-подпистолета пошевелить не смеет; так и сидит.
– Нет, говорит, ви это никак не смеет сделать.
– Да почему ж, говорю, не смеет-то?
– А потому, говорит, что это вам строго запрещено и васстрого наказать за это будут.
То есть черт этого дурака немца знает! Не поджег бы он менясам, был бы жив до сих пор; за спором только и стало дело.
– Так не смею, говорю, по-твоему?
– Нет-т!
– Не смею?
– Ви это совершенно не смейт со мной сделать…
– Ну так вот же тебе, колбаса! – да как цапну его, он ипокатился на стуле. Те закричали.
Я пистолет в карман, да и был таков, а как в крепость входил,тут у крепостных ворот пистолет в крапиву и бросил.
Пришел я домой, лег на койку и думаю: вот сейчас возьмут.Час проходит, другой – не берут. И уж этак перед сумерками такая тоска на менянапала; вышел я; беспременно Луизу повидать захотелось. Прошел я мимочасовщика. Смотрю: там народ, полиция. Я к куме: вызови Луизу! Чуть-чутьподождал, вижу: бежит Луиза, так и бросилась мне на шею, сама плачет: «Всему я,говорит, виновата, что тетки послушалась». Сказала она мне тоже, что теткатотчас же после давешнего домой пошла и так струсила, что заболела и – молчок;и сама никому не объявила и мне говорить запретила; боится; как угодно, пустьтак и делают. «Нас, говорит, Луиза, никто давеча не видал. Он и служанку своюуслал, потому боялся. Та бы ему в глаза вцепилась, кабы узнала, что он женитьсяхочет. Из мастеровых тоже никого в доме не было; всех удалил. Сам и кофейсварил, сам и закуску приготовил. А родственник, так тот и прежде всю жизньсвою молчал, ничего не говорил, а как случилось давеча дело, взял шапку ипервый ушел. И, верно, тоже молчать будет», – сказала Луиза. Так оно и было.Две недели меня никто не брал, и подозрения на меня никакого не было. В эти жедве недели, верьте не верьте, Александр Петрович, я все счастье мое испытал.Каждый день с Луизой сходились. И уж так она, так ко мне привязалась! Плачет:«Я, говорит, за тобой, куда тебя сошлют, пойду, все для тебя покину!» Я уждумал всей жизни моей тут решиться: так она меня тогда разжалобила. Ну, а черездве недели меня и взяли. Старик и тетка согласились да и доказали на меня…
– Но постойте, – прервал я Баклушина, – вас за это толькомогли всего-то лет на десять, ну на двенадцать, на полный срок, в гражданскийразряд прислать; а ведь вы в особом отделении. Как это можно?
– Ну, уж это другое вышло дело, – сказал Баклушин. – Какпривели меня в судную комиссию, капитан перед судом и обругай меня сквернымисловами. Я не стерпел да и говорю ему: «Ты что ругаешься-то? Разве не видишь,подлец, что перед зерцалом сидишь!» Ну, тут уж и пошло по-другому, по-новомустали судить да за все вместе и присудили: четыре тысячи да сюда, в особоеотделение. А как вывели меня к наказанию, вывели и капитана: меня по зеленойулице, а его лишить чинов и на Кавказ в солдаты. До свиданья, АлександрПетрович. Заходите же к нам в представление-то.
Праздник Рождества Христова
Наконец наступили и праздники. Еще в сочельник арестантыпочти не выходили на работу. Вышли в швальни, в мастерские; остальные толькопобыли на разводке, и хоть и были кой-куда назначены, но почти все, поодиночкеили кучками, тотчас же возвратились в острог, и после обеда никто уже невыходил из него. Да и утром большая часть ходила только по своим делам, а не показенным: иные – чтоб похлопотать о пронесении вина и заказать новое; другие –повидать знакомых куманьков и кумушек или собрать к празднику должишки засделанные ими прежде работы; Баклушин и участвовавшие в театре – чтоб обойтинекоторых знакомых, преимущественно из офицерской прислуги, и достатьнеобходимые костюмы. Иные ходили с заботливым и суетливым видом единственнопотому, что и другие были суетливы и заботливы, и хоть иным, например, ниоткудане предстояло получить денег, но они смотрели так, как будто и они тоже получатот кого-нибудь деньги; одним словом, все как будто ожидали к завтрашнему днюкакой-то перемены, чего-то необыкновенного. К вечеру инвалиды, ходившие набазар по арестантским рассылкам, нанесли с собой много всякой всячины изсъестного: говядины, поросят, даже гусей. Многие из арестантов, даже самыескромные и бережливые, копившие круглый год свои копейки, считали обязанностьюраскошелиться к такому дню и достойным образом справить разговень. Завтрашнейдень был настоящий, неотъемлемый у арестанта праздник, признанный за нимформально законом. В этот день арестант не мог быть выслан на работу, и такихдней всего было три в году.
И, наконец, кто знает, сколько воспоминаний должно былозашевелиться в душах этих отверженцев при встрече такого дня! Дни великихпраздников резко отпечатлеваются в памяти простолюдинов, начиная с самогодетства. Это дни отдохновения от их тяжких работ, дни семейного сбора. Востроге же они должны были припоминаться с мучениями и тоской. Уважение кторжественному дню переходило у арестантов даже в какую-то форменность; немногиегуляли; все были серьезны и как будто чем-то заняты, хотя у многих совсем почтине было дела. Но и праздные и гуляки старались сохранять в себе какую-товажность… Смех как будто был запрещен. Вообще настроение дошло до какой-тощепетильности и раздражительной нетерпимости, и кто нарушал общий тон, хоть быневзначай, того осаживали с криком и бранью и сердились на него как будто занеуважение к самому празднику. Это настроение арестантов было замечательно,даже трогательно. Кроме врожденного благоговения к великому дню, арестантбессознательно ощущал, что он этим соблюдением праздника как будтосоприкасается со всем миром, что не совсем же он, стало быть, отверженец,погибший человек, ломоть отрезанный, что и в остроге то же, что у людей. Ониэто чувствовали; это было видно и понятно.
Аким Акимыч тоже очень готовился к празднику. У него не былони семейных воспоминаний, потому что он вырос сиротой в чужом доме и чуть не спятнадцати лет пошел на тяжелую службу; не было в жизни его и особенныхрадостей, потому что всю жизнь свою провел он регулярно, однообразно, боясьхоть на волосок выступить из показанных ему обязанностей. Не был он и особеннорелигиозен, потому что благонравие, казалось, поглотило в нем все остальные егочеловеческие дары и особенности, все страсти и желания, дурные и хорошие.Вследствие всего этого он готовился встретить торжественный день не суетясь, неволнуясь, не смущаясь тоскливыми и совершенно бесполезными воспоминаниями, а стихим, методическим благонравием, которого было ровно настолько, сколько нужнодля исполнения обязанности и раз навсегда указанного обряда. Да и вообще он нелюбил много задумываться. Значение факта, казалось, никогда не касалось егоголовы, но раз указанные ему правила он исполнял с священною аккуратностью. Еслиб завтра же приказали ему сделать совершенно противное, он бы сделал и это стою же самою покорностью и тщательностью, как делал и противоположное томунакануне. Раз, один только раз в жизни он попробовал пожить своим умом – ипопал в каторгу. Урок не пропал для него даром. И хоть ему не суждено былосудьбою понять хоть когда-нибудь, в чем именно он провинился, но зато он вывелиз своего приключения спасительное правило – не рассуждать никогда и ни в какихобстоятельствах, потому что рассуждать «не его ума дело», как выражались промежсебя арестанты. Слепо преданный обряду, он даже и на праздничного поросенкасвоего, которого начинил кашей и изжарил (собственноручно, потому что умел ижарить), смотрел с каким-то предварительным уважением, точно это был необыкновенный поросенок, которого всегда можно было купить и изжарить, акакой-то особенный, праздничный. Может быть, он еще с детства привык видеть настоле в этот день поросенка и вывел, что поросенок необходим для этого дня, и яуверен, если б хоть раз в этот день он не покушал поросенка, то на всю жизнь унего бы осталось некоторое угрызение совести о неисполненном долге. Допраздника он ходил в своей старой куртке и в старых панталонах, хоть иблагопристойно заштопанных, но зато уж совсем заносившихся. Оказалось теперь,что новую пару, выданную ему еще месяца четыре назад, он тщательно сберегал всвоем сундучке и не притрогивался к ней с улыбающейся мыслью торжественнообновить ее в праздник. Так он и сделал. Еще с вечера он достал свою новуюпару, разложил, осмотрел, пообчистил, обдул и, исправив все это, предварительнопримерил ее. Оказалось, что пара была совершенно впору; все было прилично,плотно застегивалось доверху, воротник, как из кордона, высоко подпиралподбородок; в талье образовалось даже что-то вроде мундирного перехвата, и АкимАкимыч даже осклабился от удовольствия и не без молодцеватости повернулся передкрошечным свои зеркальцем, которое собственноручно и давно уже оклеил всвободную минутку золотым бордюрчиком. Только один крючочек у воротника курткиоказался как будто не на месте. Сообразив это, Аким Акимыч решил переставитькрючок; переставил, примерил опять, и оказалось уже совсем хорошо. Тогда онсложил все по-прежнему и с успокоенным духом упрятал до завтра в сундучок.Голова его была обрита удовлетворительно; но, оглядев себя внимательно взеркальце, он заметил, что как будто не совсем гладко на голове; показывалисьчуть видные ростки волос, и он немедленно сходил к «майору» чтоб обритьсясовершенно прилично и по форме. И хоть Акима Акимыча никто не стал бы завтраосматривать, но обрился он единственно для спокойствия своей совести, чтоб ужтак, для такого дня, исполнить все свои обязанности. Благоговение к пуговке, кпогончику, к петличке еще с детства неотъемлемо напечатлелось в уме его в виденеоспоримой обязанности, а в сердце – как образ последней степени красоты, докоторой может достичь порядочный человек. Все исправив, он, как старшийарестант в казарме, распорядился приносом сена и тщательно наблюдал, какразбрасывали его по полу. То же самое было и в других казармах. Не знаю почему,но к рождеству всегда разбрасывали у нас по казарме сено. Потом, окончив всесвои труды, Аким Акимыч помолился богу, лег на свою койку и тотчас же заснулбезмятежным сном младенца, чтоб проснуться как можно раньше утром. Так же точнопоступили, впрочем, и все арестанты. Во всех казармах улеглись гораздо раньшеобыкновенного. Обыкновенные вечерние работы были оставлены; об майданах ипомину не было. Все ждало завтрашнего утра.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Записки из мертвого дома - Федор Достоевский», после закрытия браузера.