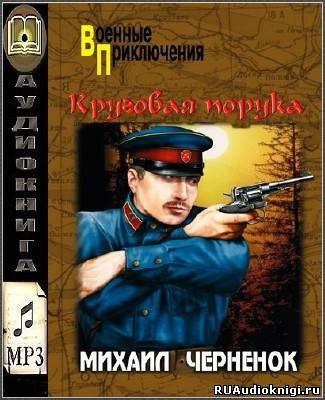Читать книгу "Круговая порука. Жизнь и смерть Достоевского (из пяти книг) - Игорь Леонидович Волгин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Не уклоняясь от участия в общей беседе, он всё же предпочитает «говорить один на один». Молчаливостью и скрытностью, этими защитными своими чертами, он напоминает одному из свидетелей истого заговорщика.
(Образ, как обычно, двоится, ибо другой мемуарист, напротив, различает в нём черты умеренности и законопослушания.)
Он оживляется, если речь заходит о литературе. Горячо вступается за Крылова, когда Петрашевский отказывает баснописцу в праве зваться великим художником. Очевидно, он отстаивает в спорах с хозяином дома и свою «манеру писания». Он не скроет от следователей, что нелестно отзывался о цензуре: её бдительное невежество, по его скромному разумению, достигает размеров, невыгодных для видов правительства.
Друзья Петрашевского ратуют за свободу тиснения, власть – за свободу теснения: можно предположить, что посетителям дома в Коломне приходил в голову этот незатейливый каламбур.
«При мне говорил Достоевский об изящном»[89], – признается один из подследственных, полагая, что такое признание ничем не сможет повредить говорившему.
Рассказ Достоевского о том, как был прогнан сквозь строй фельдфебель Финляндского полка, к разряду «изящного» отнести трудно. Равно как и приводимые Пальмом слова – когда при обсуждении различных возможностей эмансипации крестьян автор «Бедных людей» «со своей обычною впечатлительностью» воскликнул: «Так хотя бы через восстание!»[90] Иные из позднейших интерпретаторов приняли этот душевный порыв за обдуманную политическую программу – с чем, заметим, не замедлили бы согласиться и члены Следственной комиссии, буде указанное восклицание им ведомо.
Без сомнения, заинтересовало бы членов Комиссии и лестное предположение дочери Достоевского, Любови Фёдоровны, что Петрашевский, «которому были известны ум, мужество и нравственная сила» её отца, предназначал для него «одну из первых ролей в будущей республике»[91]. Но следователям, слава Богу, подобные мысли не пришли в голову.
Да, он был молчалив, но когда одушевлялся, говорил замечательно. Недаром его одноделец свидетельствует, что «страстная натура» Достоевского производила на слушателей «ошеломляющее действие».
Именно такое действие произвело чтение письма Белинского Гоголю (что довольно живо изобразил Антонелли, упорно именующий оратора Петром: просвещённый Липранди собственноручно исправит ошибку). Достоевский мог уверять Комиссию, что оглашённый им документ занимал его исключительно как достойный внимания литературный памятник, который «никого не может привести в соблазн»; что при чтении письма сам чтец ни жестом, ни голосом не обнаружил своего одобрения. Все эти оправдания были излишни: текст говорил сам за себя [92].
Достоевский осмелится публично огласить абсолютно нецензурное завещание покойного критика – этот желчный приговор не пожелавшему узнать в нём себя николаевскому царствованию. И система отреагировала так, как того и следовало ожидать: она отомстила мёртвому автору, покарав живых.
В подлинном приговоре военно-судной комиссии (ещё не отредактированном для печати) сказано, что Достоевский подлежит смертной казни расстрелянием «за недонесение о распространении… письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева»[93]. В формулировке этой содержится ряд несообразностей.
Строго говоря, «недонесение о распространении» приложимо лишь к «Солдатской беседе» Григорьева, которую Достоевский слышал в авторском исполнении (на следствии, впрочем, он будет утверждать, что не ведал имени сочинителя). Что же касается «письма литератора Белинского», то упрёк в недонесении нелеп, ибо автор послания давно в могиле, а распространителем письма являлся не кто иной, как сам обвиняемый. Ему-то, очевидно, и предлагалось донести на самого себя!
Кроме того, смертная казнь «за недонесение» – не вполне адекватная мера: даже с точки зрения военно-полевой юстиции. Не потому ли в окончательном виде формула виновности несколько изменена: тонкость, на которую до сих пор не обращали внимания.
Генерал-аудиториат постановил так: «за… участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского… и за покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений против правительства посредством домашней литографии…»[94]
Это звучит уже гораздо солиднее. Хотя некоторые недоумения остаются.
Исчезает поручик Григорьев со своей «Солдатской беседой»: по сравнению с прочими провинностями грех недонесения почитается уже не столь важным. Появляется «участие в преступных замыслах». Не уточняется, правда, в каких именно, ибо (как явствует из дела) таковое участие следствием не доказано. Зато – во изменение прежнего мнения – уже сам обвиняемый признается распространителем письма.
И, наконец, – литография. На этом сюжете следует остановиться подробно.
Из главы 4
«Жар гибели свирепый…»
Раскол в нигилистах
Вопрос о заведении домашней литографии возник в кружке, который как бы откололся от общих сходбищ в Коломне и зажил самостоятельной жизнью. Это произошло в самом конце зимы 1849 года.
«…Мы выбирали преимущественно тех, которые не говорили речей у Петрашевского» – так определит критерий отбора один из посетителей новых – субботних – собраний у Дурова. Сам хозяин дома воспрепятствовал «официальному» приглашению Петрашевского: тот, по его мнению, «как бык уперся в философию и политику» и не понимает «изящных искусств»[95]. Впрочем, это ещё далеко не разрыв: отец-основатель посещает Дурова в «неприемные» дни, а дуровцы по-прежнему вхожи на его «пятницы».
Из попавших в руки властей бумаг Александра Пальма особое внимание привлекла та, где были означены пятнадцать человек – участники тех вечеров, о которых следствие пока оставалось в полном неведении:
Шестнадцатым был Момбелли: фамилия его с отметкою за первый месяц почему-то вычеркнута из списка. (Может быть, он замедлил с внесением помесячной платы, которая для каждого из участников составляла посильные три рубля. Кстати, за второй месяц не внес положенную лепту и Ф. Достоевский, что неудивительно, если принять во внимание его отчаянные письма к Краевскому, как раз приходящиеся на февраль, март и апрель, с просьбами о денежной помощи.)
С.Ф. Дуров
Кружок украшают своим присутствием литераторы: в том числе, один знаменитый (Достоевский) и один довольно известный (Плещеев). Сам Дуров также пописывает. (Возможно, это наследственная черта: в числе его родственников по восходящей линии – привеченная Пушкиным Надежда Дурова – героиня 1812 года, «кавалерист-девица».) Пописывают Михаил Достоевский, Милюков, Григорьев и Пальм. Да и едва ли не все остальные станут в будущем авторами: заявят себя в тех или иных отраслях письменного труда.
Конечно, круг этот по силе и изощренности дарований, его составлявших, явно уступает тому, какой обретался вокруг покойного Белинского и откуда автор «Бедных людей» вынужден был удалиться – с уязвленным сердцем и с горьким осадком в душе. Здесь нет Панаевых, Некрасовых, Тургеневых, Григоровичей, Анненковых и т. д. Нет здесь, разумеется, и «аристократов» – Соллогубов и Одоевских. Отсутствуют даже Майковы (в том числе Аполлон, хотя последний, как мы ещё убедимся, чуть было не появился). Дух журнальной борьбы, соперничества, тайных писательских склок начисто отсутствует в этом окололитературном кругу. Но и в обществе Петрашевского, вдохновенного демагога, возбудителя сухих головных страстей (к тому же – с подозрением относящегося к искусству), он не может ощущать себя вполне «своим». Он ищет более подходящую
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Круговая порука. Жизнь и смерть Достоевского (из пяти книг) - Игорь Леонидович Волгин», после закрытия браузера.