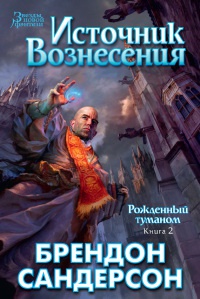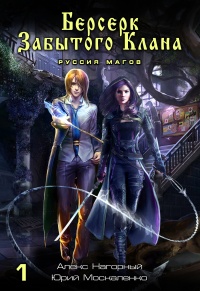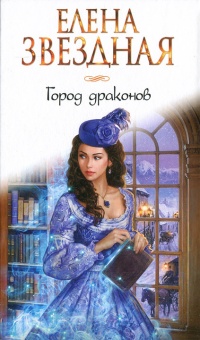Читать книгу "Воевода и ночь - Ник Перумов"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Помню, как ты пришел, — выдавил из себя Алдасьев, наполняя кубки, — и о чем говорил, помню, и как на коня садился. Нет на мне твоей крови, князь, это ты в нашей крови купался, новым хозяевам угождал.
— Ничего-то ты не понял, Степане, — жутковато усмехнулся Забецкой, — ни тогда, ни теперь… Не хотел я бежать, душа не хотела. Головой решился, не сердцем. Не со страху — с обиды. Отплатить хотел Крониду, а совесть не пускала, вот и пришел к тебе. Думал, отговоришь али убьешь на худой конец, а ты отпустил, ровно в прорубь кинул. Вошел к тебе живым, вышел — мертвым… Хуже, упырем. С того и кровь пил, да не сыскалось мне кола по сию пору, с того и старости мне нет. Так и вою, ровно волк, как ветер с востока поднимется. Худо мне, Степане, ох как худо…
— Вижу, что худо, — жестко сказал Алдасьев, — только не перед тобой моя вина, а перед теми, кого заместо тебя схватили. Не верил Кронид Васильевич поклепам, пока ты к супостату не перекинулся. Убить хотел тебя, то правда, только не за крамолу… Видел он, что у царевича твое пятно родимое, а потом шепнули ему про тебя да про государыню…
— Много грехов на мне, Степане, — перебил Забецкой, — вовек не отмолюсь, но все они поздние. Чист я был до измены. Было б чем поклясться, поклялся, а что до пятна родимого, то мы с Кронидом одного деда внуки.
— Так государю Ейский и сказал да о победах твоих напомнил. Дескать, всем ты, княже, взял. И девки тебя любят, и люди воинские, и народишко подлый. Захотел бы венца, носил бы уже. Государь и запомнил, только не знаю я, Михайло, что прежде случилось — ты ли сбежал, государь ли избыть тебя решился. И никто теперь не скажет, разве что на том свете ключарю Пресветлому.
— Ладно, Степане, — махнул рукой Забецкой, — дело прошлое. Не за тем пришел… Меня добил, Русь не добивай. За нее, родимую, пью…
— За нее, — повторил Степан Никитич, поднимая кубок. Присутствие Забецкого не пугало и не удивляло. Михайло должен был прийти и пришел. Сколько волка ни корми, а он в лес глядит… Сколько ни засыпали Михайлу Андреевича немецким золотом, тот на Болотову гору косился. — Много ты говорил, княже, что ж о том, как стравил свеев с ляхами да с границ наших увел, не сказал? Что о том, как Млавенец ляшский ливонцам заместо Плескова скормил, молчишь?
— Того и молчу, что, в ключевой воде замаравшись, в болотине не отмыться. Ну, прощай, Степане. Не провожай, не знаешь ты дорог моих нынешних, не про таких, как ты, они торены.
Пустая горница да споловиненный кубок. То ли было, то ли привиделось…
— Опять полуночничаешь, горюшко мое горькое?
Аннушка! Жива… Вскочить бы, броситься к ногам, собакой ткнуться в подол да не сдвинуться с места, только и сил, что глядеть, боясь сморгнуть, чтоб не растаяла, не рассыпалась серым прахом. Заживо ж сожгли с детьми да слугами. Заживо! А ведь мог спасти, если б гордыню смирил. Знал ведь, что придут, упредили люди добрые. Во всем Богунов признался, одно позабыл. Молодицу у колодца, что детей спасать велела да кольцо с яхонтом показала. Памятное кольцо, государем дареное, государя и убившее. Не снимал его Денис Феодорович, ровно сросся с ним, а тут не пожалел!
— Да что с тобой, Степушка? — засуетилась Анна. — Молчишь, глядишь зверем, ровно и не ты жив, а я…
— Это я тебя загубил, — глухо произнес князь. — Гордыня моя. Дескать, невместно мне по следам Михайлы тащиться. Лучше свой государь за правду казнит, чем иноземный за кривду в шелка оденет. О себе думал, о тебе забыл.
— А ты всегда забывал, — улыбнулась молодыми губами княгиня, — не для себя жил — для Володимира. А теперь для всей Руси поживи, поздно тебе о винах думать да о сгоревшей траве плакать. Не меня жалей — тех, кто сейчас боится да плачет.
— Не то беда, что не для себя жил, — повторил Степан Никитич, — а то беда, что не для тебя. Не было тебе ни счастья со мной, ни покоя. Только раненым меня и видала…
— Все было, Степушка. И счастье, и несчастье, — белая рука потянула к себе тяжелый кувшин. — Ночи без дня не бывает, а зимы — без лета. Пьешь, гляжу, ну и я с тобой выпью. Долго же мы с тобой не виделись. Девять лет жду, да мне не впервой. Сколько надо, столько и живи. Для того и пришла, чтоб сказать… И спросить.
— О чем спросить, Аннушка?
— Да о чем сестра наша спрашивает? Только правду ответь. По любви ты меня взял или отцы наши сговорились, тебя не спросили?
— Сговорились, Анна Всеславна… Не было любви, да другое потом пришло. Не цветами — хлебом. Прирос я к тебе накрепко.
— Вот я и узнала, — вздохнула княгиня. — Что ж, что купила, то и ешь. Правды просила, а хотела иного… Нет в тебе жалости, Степане, только правда.
— Ты же сама…
— Сама. По дурости. Ну, прощай… Не до меня ведь тебе, сама вижу. И не иди за мной — не догонишь.
И вновь тишина, сторожкая, будто перед войной. Два кубка на столе, споловиненный да пригубленный, а третий, пустой, в руках. Налить бы, да прошлое топить в вине позорней, чем от врага бежать. Без памяти — ровно и не жил, только с памятью порой лучше б и не жить, а завтра придут и спросят, готов ли ты, княже, принять венец Киев, и что ответишь? Ейский душу за обруч с самоцветами загубил, да добро б только свою. Богданов-Кошка, даром что двадцатый год рясу таскает, за венец для сына-недоросля глотку хоть кому перервет, а тебе легче петлю вздеть, чем бармы.
Снова шаги в сенях! Легкие, быстрые, торопится кто-то…
— Кого Господь несет? — Полно, да Господь ли?
— Здрав буди, княже! Знаю, не рад ты мне…
— Государь Симеон Кронидович! Так ты…
— Где положили, там и лежу, — последний из сынов Кронида Васильевича улыбнулся робко и виновато, как и в последнюю их встречу. — Прости, княже, не своей волей тебя тревожу, да когда я что своей волей делал? Разве что пел, когда не слышал никто, только какой с певца государь? Воды испить дашь? Знаешь же, вина в рот не беру, худо мне от него.
— Сейчас, государь. Нет здесь воды, принесть надо.
— Коли так, не тревожься. И то сказать, зачем мне теперь вода, баловство одно… Вот когда Ивашка признать его велел, тогда тяжко без нее было. Думал, не выдержу — все, как хочет, скажу и крест на Лобном месте поцелую, да уберег меня Господь от свидетельства ложного, подкинул веревочку… Тоже грех, да только мой, а скажи я всему Володимиру, что холоп беглый Кошкин — племянник мой, чудом спасшийся? На всех бы ложь моя пала…
— Замолчи, государь! — то ли прошептал, то ли взвыл Алдасьев. — Сыном Божьим, матерью Его Пречистой молю, замолчи!
— Как скажешь, Степан Никитич, — потупился Симеон. — Прости, что опечалил, только вспомнилось… Мы в земле неосвященной лежим, вот и помним. Вода святая, землю кропящая, сны навевает, доброму — добрые, лихому — лихие, чтоб совесть пробудилась, а самоубийцы, они бессонно лежат. Так ты принесешь воды, княже? Если будет ласка твоя, похолоднее, жарко мне…
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Воевода и ночь - Ник Перумов», после закрытия браузера.