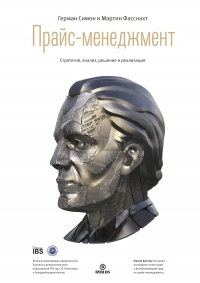Читать книгу "Расплетая радугу. Наука, заблуждения и потребность изумляться - Ричард Докинз"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В противоположность этому органы слуха у насекомых — не маленькие барометры, а маленькие флюгера. Они в самом деле воспринимают молекулярный поток как ветер, пусть и очень странный ветер, который, едва лишь преодолеет очень небольшое расстояние, меняет свое направление на противоположное. Расширяющийся волновой фронт, который мы ощущаем благодаря изменениям давления, представляет собой также и волну локальных перемещений молекул: они перемещаются внутрь некой конкретной области, когда давление в ней повышается, и уходят обратно, когда оно снова падает. В то время как наши с вами уши-барометры снабжены перепонкой, ограничивающей замкнутое пространство, у «ушей»-флюгеров насекомых есть либо волосок, либо же мембрана, которая отгораживает камеру, имеющую отверстие. И тот, и другая в буквальном смысле колышутся на ветру, представляющем собой ритмичное перемещение молекул туда-сюда.
Выходит, для насекомых чувствовать направление звука — обычное дело. Как любой дурак, у которого имеется флюгер, в состоянии отличить северный ветер от восточного, так и один-единственный орган слуха насекомого легко отличает колебания в направлении север — юг от колебаний по оси восток — запад. Определение направленности «встроено» в метод, используемый насекомыми для улавливания звуков. Барометры же так не умеют. Повышение давления — это просто повышение давления, с какой бы стороны молекулы ни приходили. И потому нам, позвоночным, с нашими ушами-барометрами, приходится вычислять направление звука, сопоставляя информацию, получаемую от каждого уха, — примерно так же, как мы вычисляем цвет, сопоставляя сигналы от разных типов колбочек. Мозг сравнивает громкость в одном и в другом ухе, а также отдельно — время прибытия к ним звуков (особенно отрывистых). Некоторые звуки поддаются такому сопоставлению легче, чем другие. Высота и длительность трелей сверчка подобраны так искусно, что слуху позвоночных трудно определить, откуда они исходят, однако самки сверчков, с их «ушами»-флюгерами, летят на зов прямой наводкой. Порой стрекотание сверчков даже создает иллюзию (по крайней мере, в моем мозгу позвоночного), что сверчок — в действительности сидящий неподвижно — скачет вокруг, будто зажженная петарда.
Звуки различных длин волн образуют спектр, аналогичный радуге. Звуковую радугу тоже можно расплести — собственно, это и позволяет нам хоть как-то ориентироваться в звуках. Если наше восприятие цвета представляет собой ярлыки, присвоенные мозгом свету с различными длинами волн, то в случае звуков точно такими же метками, используемыми мозгом для собственного удобства, служат значения высоты звука. Однако звуки характеризуются далеко не только высотой, и вот тут-то расплетание радуги выходит на передний план.
Камертон и стеклянная гармоника (инструмент, пользовавшийся благосклонностью Моцарта; состоит из тонких стеклянных чаш, которые настраиваются добавлением в них нужного количества воды, звук извлекается проведением смоченного пальца по ободку) издают кристально чистые звуки. Физики называют такие колебания синусоидальными, или гармоническими. Синусоидальные волны — это простейшая разновидность волн, своего рода идеальная абстракция. Плавные изгибы, змейкой пробегающие по веревке, если взмахивать одним ее концом, — это колебания, более или менее близкие к гармоническим, хотя частота их, разумеется, намного ниже, чем у звуковых волн. Большинство звуков — не простые синусоидальные волны: обычно они, как мы вскоре увидим, более сложные и менее плавные. А пока поговорим о камертоне и стеклянной гармонике и о производимых ими гладко изогнутых волнах перепадов давления — волнах, что разбегаются от своего источника расширяющимися концентрическими сферами. Ухо-барометр, находясь в некой определенной точке, фиксирует плавное возрастание давления, а затем плавное понижение — ритмичные колебания без каких-либо изломов или вывертов на графике. Каждый раз, когда частота волн удваивается (или вдвое уменьшается их длина, что одно и то же), мы слышим скачок на одну октаву. Очень малые частоты — самые низкие ноты оргáна — проходят через все наше тело и едва воспринимаются на слух. К очень высоким частотам люди (особенно пожилые) невосприимчивы, зато летучие мыши их прекрасно слышат и используют в форме эха, чтобы ориентироваться в пространстве. Это одна из самых захватывающих тем во всем естествознании, но я уже посвятил ей целую главу в «Слепом часовщике», так что удержусь от искушения и не буду углубляться.
Однако, если оставить в стороне камертоны и стеклянные гармоники, чистые синусоидальные волны — это по большому счету математическая абстракция. В реальности звуки, как правило, представляют собой сложносоставную мешанину, где, поверьте, есть что расплетать. Наш головной мозг занимается этим безо всяких усилий и с поразительной эффективностью. То, что нашему математическому пониманию поддается с большим трудом, грубо и не полностью, наши уши без малейшей трудности расплетают — а мозг сплетает заново — с раннего детства.
Представьте, что мы ударили по камертону — и он завибрировал с частотой 440 колебаний в секунду, или 440 герц (Гц). Мы услышим чистый звук — ля первой октавы. В чем разница между этим звуком и той же самой нотой, взятой на скрипке? А на кларнете? А на гобое или флейте? Ответ заключается в том, что в звучании каждого музыкального инструмента содержатся волновые примеси, частоты которых кратны основной, или фундаментальной, частоте. Любой инструмент, играющий ля первой октавы, бóльшую часть звуковой энергии высвобождает в виде волн с фундаментальной частотой 440 Гц, на которые, однако, накладываются незначительные колебания с частотами 880 Гц, 1320 Гц и так далее. Такие призвуки называются гармониками, хотя это слово может сбивать с толку, поскольку понятие «гармония» относится к аккордам — сочетаниям из нескольких различимых нами нот. «Одиночная» нота, взятая на трубе, в действительности представляет собой смесь гармоник[33] — определенную смесь, которая является своего рода уникальной «подписью», отличающей трубу от, к примеру, играющей «ту же» ноту скрипки (со своей, свойственной только скрипке смесью гармоник). Есть и дополнительные усложнения, которые касаются начала звучания, — например, дребезжание от дрожания губ, знаменующее вступление трубы, или характерный посвист при касании струны смычком скрипки, — но я ими пренебрегу.
Если отбросить эти нюансы, у звука есть характерный тембр, окраска, делающая его трубным (или скрипичным, или каким угодно еще). Можно продемонстрировать, что тон любого музыкального инструмента, кажущийся нам одиночным, — это конструкция, сплетаемая нашим мозгом из совокупности различных синусоидальных волн. Сделаем следующее: выяснив, какие колебания участвуют в формировании, скажем, звука трубы, отберем соответствующие чистые, «камертонные» звуки и заставим их звучать одновременно. Вначале в течение недолгого времени вы будете слышать отдельные ноты — как бы аккорд из нескольких камертонов. А затем эти ноты каким-то сверхъестественным образом «схлопнутся» воедино, «камертоны» исчезнут — и вы услышите только то, что Китс назвал «пронзающими слух руладами трубачей»[34], звенящими на высоте основного тона. Другая комбинация «штрихкодовых» частот даст звучание кларнета, и вы снова сможете какое-то мгновение воспринимать их как отдельные «камертоны», пока ваш мозг не сведет их воедино в иллюзию характерного «хрустального» тембра этого инструмента. Свой собственный «звуковой штрихкод» есть и у скрипки… Ну и так далее.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Расплетая радугу. Наука, заблуждения и потребность изумляться - Ричард Докинз», после закрытия браузера.