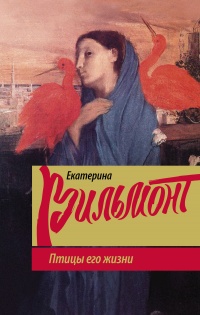Читать книгу "Конец семейного романа - Петер Надаш"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Борис ДУБИН
И свет во тьме светит, а тьма не объяла его.
Иоанн 1.5
Среди кустов сирени и орешника, у подножия бузины. Неподалеку от того дерева, на котором иногда покачивался один лист, хотя ветра не было вовсе. Наша семья состояла из трех человек: папа, мама и ребенок. Я был папа, Ева — мама. В зарослях кустарника всегда был вечер. «Все время спать да спать! Почему всегда надо спать?» Мама уже уложила ребенка. «Папа, ну расскажи что-нибудь ребенку!» Она гремела кастрюльками, мыла посуду на кухне. Я делал вид, что зубрю за письменным столом текст из Нины Потаповой[1], но по ее призыву вставал и перебирался в детскую. В детской было мягко, мы старательно выложили ее сеном. Я садился на край кроватки и притягивал голову ребенка к себе на колени. Приобняв его, перебирал пальцами мокрые волосы. Как если бы меня обнимала моя мама. Я прикладывал ладонь к его влажному лбу и сам не знал, что ощущаю — свою ладонь или его лоб. На шее у него хорошо видна была толстая жила. Если эту жилу перерезать, потечет кровь. На кухне по-прежнему гремели кастрюльки. «Поскорее рассказывай, папа, не то опоздаем на вечеринку!» Она вечно рвалась на вечеринку, но я не спешил со сказкой, так хорошо было сидеть здесь, держа влажную детскую голову на коленях. «О чем же тебе рассказать?» Ребенок открыл глаза. «Я хочу опять про то дерево». И такой он был славный, что думалось совсем не о сказке, а о том, как было бы хорошо, если бы у меня и вправду был ребенок и лежал вот так, у меня на коленях. «Ладно, расскажу тебе о дереве, только закрой глаза и слушай. Было то или не было, а только росло на белом свете одно дерево. И дерево это особенное: на кончике одной его ветки рос очень странный листочек. Вообще-то листьев на том дереве была, может, целая тыща. Но тот листок, про который я говорю, совершенно необыкновенный листок, потому что был он совсем не такой, как остальные листья. И росло то дерево в заклятом саду. Сада этого никто не видал, а только знали, что где-то он есть, этот сад. Но, как ни искали его, все-таки не нашли. А уж сколько сыщиков шныряло, куда только свой нос не совали. Даже полицейских собак с собой водили. Ты только лежи спокойно! С улицы тот сад увидеть нельзя было. Даже и с самолета. Но мы-то знали, как можно туда забраться. Видишь ли, под одним кустом была яма, а из ямы шел тайный ход. По этому подземному ходу с улицы можно было попасть прямо в сад! Но в тайном подземелье обитали летучие мыши. Специально, чтобы сад охранять. Летучие мыши, они вонючие. Но мы все же отправились на поиски, потому что я знал — нужно только крикнуть громко: „Мыши — кожаный мешок! Кто схватил, тот уволок! Мышь, мышь, а ну кыш!“ Они, как услышат это, сразу по самым темным уголкам подземелья забьются. Мы ведь с собой фонарь взяли, карманный фонарь. Да только это вовсе еще не значило, что путь свободен: откуда ни возьмись, появились тут осьминоги, огромные-преогромные. Глаза у них вроде прожекторов. Например, кто-нибудь случайно оказался в подземелье, они сразу к нему и плывут всем скопом. Это такие особые осьминоги, амфибии называются, и могут плыть очень быстро, хоть и по воздуху. Ночью они вылезают из своих пещер, только глаз не открывают, потому что не хотят, чтобы их заметили. Но уж если кто туда попал, тут они — рраз! — на него, обхватывают своими щупальцами и до тех пор сжимают, выкручивают, пока не задушат. В той пещере, по которой мы шли, вся земля костями была усеяна. Потому что, сам понимаешь, многие старались туда пробраться, да только в сад не сумел попасть никто. Чудища эти застали нас врасплох. Мы-то думали: нам бы только с летучими мышами справиться, а дальше уж путь свободен». Бабушка целый день лежала в постели и сосала леденцы с начинкой, покупала их в магазине, за два сорок. Я эти леденцы тоже очень любил: сперва сосешь их, во рту туда-сюда перекатываешь, а потом языком подтолкнешь и — хрусть! — прокусил, и сразу малиновый сироп во рту разливается. Бабушка всегда сама ходила в лавку за леденцами. Просила, чтоб шесть раз по сто граммов отвешивали, на шесть дней недели, а по пятницам — постилась. Пакетики с леденцами она прятала под подушку. Они там склеивались и прилипали к пакетику. Иногда и меня угощала — возьми, мол, — и тут уж случалось ухватить даже по три штуки сразу. Но бывало и так, что проси не проси — нипочем не даст. «Бабушка, дай конфетку!» — «Не дам!» — «Ну, бабушка, дай конфетку!» — «Нету». — «Бабушка, не ври!» — «Сказано, нету, кончились, да если б и были, все равно не дала бы. От конфет зубы портятся. Ты не должен портить зубы. Зубы для жизни самое важное!» Она лежала на кровати в черном платье, потому что умер дедушка. С тех пор как дедушка умер, бабушка ничего не готовила. Я ел хлеб с жиром или горчицей, а она грызла-сосала свои леденцы. Но по ночам не спала, все стояла у окна, говорила, дедушка обязательно вернется домой, только вот когда — этого заранее знать нельзя. Дедушка мне много всего рассказывал. Не настоящие сказки, а из жизни. «Сейчас я расскажу тебе, какие счастливые события бывали в моей жизни». И рассказывал всякие разные случаи. Или говорил: «А теперь послушай о том, как я избежал смерти. Однажды, третьего января тысяча девятьсот пятнадцатого года, мы с моими гусарами отправились в дозор. В тот день стоял в Сибири густой туман. Ну вот, едем мы — и вдруг слышу лошадиный топот, странный какой-то. Да что, думаю, это ж наши лошади и цокают копытами, просто из-за густого тумана вроде как эхом отражается, вот мне и почудилось что-то необычное. Но не прошло и нескольких минут, как прямо перед нами возникают из тумана незнакомые всадники. Вроде бы и не всадники даже, а тени какие-то, однако раздумывать было некогда. Мы с ними уже чуть не вплотную сошлись, так что, не будь лошадь умней человека, наверняка сшиблись бы сходу. Но кони заартачились, сразу на дыбы, заржали. А тут собака-серб уже и саблю выхватил. Я мигом и свою наголо! Схватились мы. Да только его позиция была выгодней, потому как он выше меня стоял, на пригорке, значит. Я делаю выпад, проткнуть решил напрямую, а он меня сбоку срезать норовит — одним словом, если бы я не приник к седлу, покатилась бы с плеч моя головушка. А так только шапка прочь отлетела. Ну, думаю, настал мой конец. Но тут один из гусаров моих подскочил. И не поспел собака-серб размахнуться еще раз да прямо сверху ударить — разрубил бы он меня надвое вместе с конем моим, — как мой гусар голову ему снес». Дедушка, когда про это рассказывал, так хохотал, что зубы протезные в рот западали. Он их каждый раз выталкивал вперед и аккуратно вставлял на должное место. «Вот так я первый раз спасся от смерти. Или когда на свет родился. Господь помог. Потом еще был случай, в Фиуме, ровнехонько в мой день рождения. В тысяча девятьсот шестнадцатом году, осенью, точь-в-точь десятого ноября. Впереди шел „Принц Евгений“, а мы следом за ним. Шли это себе, с часок, не больше, как вдруг — стрельба! „Принц Евгений“ две пробоины получил и сразу ко дну пошел. Все как один утонули в море. Мы же без помех двинулись дальше, покуда не пришвартовались в Дурресе. Вот только всю дорогу у меня под мышкой назревал ужасный фурункул, ни в какую лопнуть не желал, так что я и руку-то толком опустить не мог. А в Дурресе нас поджидала холера, все подхватили, но я и из этого выкарабкался. Между прочим, в Фиуме я-то очень даже хотел на „Принца Евгения“ попасть. Вот так-то. А случись по-моему, из-за фурункула этого я и плыть не мог бы, да если б умел еще! Господь уберег, он всегда помогал мне. Так что, видишь, вот он я. Восемьдесят четыре года. Большой срок! Ну, и потом еще много всякого случалось. Однажды с пятого этажа настенный канделябр вышвырнули. Или вот еще. Нас тогда уже третий день гнали, а я-то в летах был, можно сказать. Форсированным маршем шли — русские преследовали нас по пятам. За день раз-другой разрешали немцы короткий привал. Даже присесть посрать и то не давали. Как скажут „привал“, люди просто кулем наземь валились. Однажды вот так свалился я посреди дороги, в заальфельдском лесу, лежу, смотрю на землю, я в молодости бывал в тех краях, вот, думаю, как интересно, тогда ведь совсем другое меня сюда привело, и какая это хорошая, мягкая земля. Очень даже подходящая, вот пусть бы и забрала к себе обратно, недаром же я вернулся. Здесь и останусь, думаю, в тебе мое место, землица, мне отсюда уже нельзя, думаю, незачем и вставать». Каждый раз, когда дедушкин рассказ доходил до этого места, он вскидывал голову и орал во все горло так, что губы чернели: «Aufstehen! Schnell! Los! Schnell! Los!»[2]После долго молчал и снова становился бледным, обычным. «И вот лежу я на той земле и думаю, вопи теперь сколько влезет, мне это как мертвому припарки, я уже вернул себя земле. Видишь, какая тщеславная тварь человек. Вбил себе в голову, будто сам своей жизнью распоряжается. Словно бы жизнь от его воли зависит. Э, какое там! Вот и я напрасно так думал, происходит-то все по-другому. Остановился надо мной немец. „Warum stehst du nicht auf, mein lieber Jude?“[3]Я с трудом поднимаю глаза на него. Вижу, вынимает уже пистолет свой. Ну, видать, сейчас и прикончит. Но я-то, я-то хотел, чтоб не по его, а по моей воле случилось! Очень прошу, говорю ему, застрели ты меня! Но он не выстрелил. Обратно пистолет в кобуру сунул. Стоит, смотрит. Глаза у него были умные, карие, ласковые, как у собаки. Плюнул на меня. Потом крепко пнул башмаком и пошел дальше. Вот так Господь спас мне жизнь. Оставил там, на дороге, живи, мол». Когда дедушка уже умер, бабушка всякий раз гасила везде свет, садилась на мою кровать и начинала рассказывать. Не любила электричество попусту расходовать. Однажды я попросил ее рассказать мне о маме. Но она все молчала, хотела, чтобы я заснул. Мне-то больше нравились придуманные сказки. Когда папой бывал я и мы укладывали детей спать, всегда сам придумывал какую-нибудь сказку. У той сказки про дерево продолжение было такое. Мы взяли с собой две палки. «И тут на нас поползли осьминоги! Сто осьминогов. У каждого по пятьдесят щупальцев. Я давай палкой махать! Увидели они, что не могут к нам подступиться. А нам больше ничего и не надо — айда в сад! Они только глазищами хлопают, вслед нам глядят. Но и нам было на что посмотреть! Деревьев в этом саду оказалось видимо-невидимо! И все какие-то совсем необыкновенные! Всякие деревья попадались, а понять, какое из них — какое… нипочем не разберешь. Смотрим — вроде бы абрикосовое, а на нем и слива, и черешня, и вишня, и даже виноградные гроздья. Уж мы там наелись от пуза. Да только то дерево, о котором рассказать хочу, мы уж под конец только заметили». Но дальше рассказывать я не стал. Какая-то совсем чужая голова покоилась у меня на коленях. И сам я не знал, как здесь очутился. Из приоткрытого рта ровно вырывалось дыхание. Где-то далеко остановился автомобиль, но мотор продолжал работать. Я словно бы видел самого себя — как я уснул на собственных коленях. Так и хотелось положить голову рядышком к себе на колени, чтобы и самому поспать заодно. Я осторожно снял свою руку с его лба. Он почувствовал, шевельнулся, закрыл рот. Теперь, дыша через нос, он еще громче втягивал воздух. А мотор на улице все работал. Мне хотелось, чтобы и у меня был такой же лоб, но у меня волосы росли на лбу совсем низко, и я стыдился этого. Ева все еще драила кастрюльки на кухне. Жара сгустилась, даже самый легчайший ветерок не тревожил ее. И все-таки солнечные зайчики своенравно прыгали, беспорядочно перескакивали с места на место. У ребенка на лбу тоже подрагивало светлое пятнышко, то подсвечивало волосы, то соскальзывало ниже. Я уже пожалел, что убрал с его лба руку. Хотелось еще раз почувствовать, что моя рука — его лоб. «Ты почему ничего ему не рассказываешь?» — «Уснул он. Не понарошку, по-правдашнему». Ева поставила кастрюльку на полку. Полка — доска, положенная между двумя ветками, но мы называли ее кухонным буфетом. Если кому-нибудь из нас случалось задеть ветку, дырявые кастрюльки скатывались на землю. Ева при этом непременно ворчала: «Папа, опять буфет скособочился, право же, пора бы тебе починить его!» На этот раз кастрюльки стояли как надо, но, когда она пролезала ко мне, все ж, как ни остерегалась, куст подтолкнула. Я вдыхал ее запах. Казалось, трепещут не зайчики, а сама ее кожа. «Пора, папа, не то опоздаем на вечеринку!» На ней были крошечные купальные трусики и лифчик с оборками. Только как она ни выпячивала грудь, лифчик еще совсем не топорщился. На вечеринку мы выходили из-под кустарника, розовый тюль свисал до земли, и она говорила, что надела и бриллианты. «Много драгоценностей носить нельзя. Даме не следует надевать много драгоценностей, но они должны быть дорогие и подобраны со вкусом, понимаешь?» Все смотрели только на нее. Она танцевала, изящно приподнимая двумя пальчиками длинную юбку. «Как ярко сверкают люстры! Хрустальные люстры!» Но мне не хотелось вылезать на вечеринку. Я вдруг ощутил прикосновение двух тел друг к другу, их вес. «Лучше давай любиться!» И обнял ее. Я чувствовал на губах ее запах: так пахнут высыхающие волосы ребенка, так пахнет у нас в доме. «А как?» Я откинулся навзничь, вместе со мной опрокинулось и ее тело. Сейчас надо поцеловаться, сейчас надо поцеловаться. «Вот так». На моем животе ее обнаженный живот. На моих бедрах горячая детская головка. И тут сверху, из того сада, громкий голос их матери: «Габор-Ева, быстро из воды! Габор-Ева, быстро из воды! Габор-Ева, быстро из воды!» Их мама думала, что мы все еще болтаемся в бассейне. Ева куснула меня за шею. Мы смотрели друг на друга. Я потер это место, не потому, что мне так хотелось, да и больно-то не было. Их мать стояла на террасе, в том самом халате, который однажды вдруг взяла и сбросила. И голая прошла через комнату, хотя мы там играли. Напрасно я ждал, чтобы она еще раз прошлась вот так же, голая. Вообще со мной как-то странно выходит: если чего-нибудь жду, никогда этого не случается. Бывало, мы и по-другому играли: ребенок был я, а Габор — папа. Тут вот что интересно было: он вел себя совсем по-другому. Но после ужина, когда меня уложат, он тоже рассказывал сказки. А когда они любились, я должен был закрывать глаза. Ева говорила, что Габор умеет хорошо целоваться. Если ребенком была Ева, папой был я, а Габор мамой. Ева всегда льнула к маме. Папу она не любила, потому что он все не возвращался из Аргентины. Если же быть ребенком выпадало мне, это было здорово, потому что тогда мамой была она. Габор, когда был папой, вечно оказывался в Аргентине. Но зато рассказывал, что там и как. Мой папа редко приезжал домой. Мы всегда загодя знали, когда он приедет, потому что получали телеграмму. Я поджидал его на улице. Увижу, что идет, и опрометью к нему навстречу. Бегу, а он идет себе со своим коричневым портфелем. Только когда я был уже совсем близко, раскидывал руки. Всегда обросшее щетиной лицо — добираться домой ему приходилось ночью. И одежда очень была вонючая, потому что жил он в казармах, где допросы эти устраивают. Но я все-таки любил этот запах. Обхвачу его за шею, повисну на нем, а он так и шагает дальше, со мною вместе. Потом он расцеплял мои руки и напяливал мне на голову свою шапку. Когда я не замечал его взгляда, он всегда смотрел на меня так, словно я ему не нравился. Но я-то все замечал. Он проводил пальцем по моим губам. Шапка его тоже воняла. Бабушка все его вещи — китель, штаны и даже шапку — отстирывала в бензине, чтобы побыстрей просохли. Утренним поездом он уже возвращался назад. Все это время курить не разрешалось — не дай бог, взлетим на воздух. Он сидел в дедушкином халате, в дедушкином кресле. Но, как я ни всматривался в него, не был он похож на дедушку. Я думал: если он получился не такой, как дедушка, значит, и я не буду таким, как он. Когда он уезжал, я еще спал, но он обязательно подходил ко мне, целовал и проводил пальцем по губам. Лицо у него было чисто выбрито, но запах бензина так и не успевал выветриться. Дедушка, когда рассказывал что-нибудь, всегда кричал, и очень громко. А когда молчал, то сидел, сцепив руки между колен, ссутулясь и низко свесив голову. Нипочем не догадаешься, какой он огромный. Если подолгу ни с кем не разговаривал, просто засыпал в кресле. Папа не так: он сидел скрестив ноги, локтями упершись в колени, в одной руке держал сигарету, но вдруг вскакивал с кресла и начинал ходить по комнате. Каждую вещь возьмет в руки, рассмотрит, как будто в первый раз видит. Прежде чем приняться за еду, обязательно вдохнет запах. Мимо чего ни проходит, непременно пальцем проведет. Так, походив, потрогав все, что было в комнате, ложился на кровать, вытянувшись во весь рост; я видел, ему хочется спать, он даже глаза закроет, но тут же откроет и вдруг ни с того ни с сего засмеется. «Ты почему смеешься?» Он тут же нахмурит лоб. «Смеюсь? Да нет. Просто так. Может, вспомнилось что-то забавное». Иногда я пробовал засмеяться так же, как он, — что будет? И смеялся. Но он не спрашивал меня, чему я смеюсь. Хотя, если б спросил, я сказал бы ему: смеюсь, чтобы самому испытать, что он чувствует, когда смеется. Вечером я пристраивался рядом с ним на кровати и просил рассказать сказку. «Сказку? Какую же рассказать тебе сказку? Дай подумать. О Господи, ни одна не приходит в голову. Ага! Хочешь, расскажу про сапоги? Ну, слушай. Было то или не было, за морями за лесами жили-были сапоги. Два сапога — пара. Друзья они были. И так крепко дружили, что никто уж и представить их не мог друг без друга. Куда один ступит, туда и второй за ним вслед. Если второй остановится, тут же и первый замрет. Их так и прозвали: первого Первым, а второго Вторым. И всегда они были неразлучны, да не только днем, даже и ночью. Каждую ночь они стояли в ногах кровати. Так и спать любили, стоя. И при этом даже не слишком уставали, потому что стояли опершись друг на друга. Каждому нравилось кожей ощущать кожу другого! Собственно, им ничего другого и не было нужно. Так они и жили. Но время шло, и мало-помалу они состарились. И выкинули их на помойку. Один налево, другой направо. А потом… не знаю, что с ними стало потом. Так что тут и сказке конец. Иди спать». Но я никак не хотел поверить, что это конец. Однако ж пришлось перебираться на свою кровать. «А с сапогами — что сталось с сапогами?» — спросил я, когда он снова приехал и я лежал, затаясь в темноте. «С какими сапогами?» — «Которые друзьями были». — «А! Сапоги. Не знаю, понятия не имею, что с ними сталось». Когда он уехал утренним поездом, я подумал, что вот было бы здорово, если б я стал таким, как он. Или как дедушка. Но только никак не мог решить, потому что мне нравилось представлять себя и таким, как их мама, которая однажды голая прошла через всю комнату и ничуть не стыдилась. Если бы она была моей мамой, лоб у меня, может, был бы такой, как у Габора. Когда Габор был папой, а мама меня уже уложит спать, он влезал в детскую и подходил к постели. Он не клал мою голову себе на колени, а обеими ладонями обхватывал мою шею. Иногда сжимал даже, как будто задушить хотел, и тогда мы начинали драться. А если просто так держал ладони на моей шее, тогда рассказывал что-нибудь. Он любил рассказывать разные истории про женщину, которую звали Клеопатра, и в одной нашей книжке был ее портрет. «Как-то раз женщина по имени Клеопатра лежала у себя в комнате, стояла страшная жара. Что ты ерзаешь, может, отшлепать тебя?.. Она лежала в своей спальне на кровати. Вот лежит она там, как вдруг ни с того ни с сего дверь отворяется. Но никто не входит. „Кто там? — спрашивает Клеопатра. — Может, духи?“ Но тут она увидела, что никакие это не духи, а змея. „Что тебе нужно, змея?“ — спрашивает Клеопатра. „Я пришла послужить тебе“, — прошипела змея. „Спасибо тебе, — ответила ей эта бабец, — только есть у меня слуга, да не один, а целая сотня!“ — „Но все же такого слуги, как я, тебе не найти!“ — „Это почему же? Что ты умеешь такого особенного, змея?“ — спрашивает бабешка». — «Не хочу я, чтобы ты ее так называл! Называй как полагается, по имени». — «А ну, помалкивай! Словом, девчонка спросила змею, что она умеет такое, чего не умели бы ее слуги. Но змея только посмеивалась. „Ты ведь страдаешь от жары, разве не так, Клеопатра?“ — „Конечно, страдаю“. — „А я вот холодная как лед! — сказала змея. — Могу вползти на тебя и охладить твое тело“. — „Ну так ползи!“ — воскликнула Клеопатра. А змее только этого было и нужно, она мигом вползла на Клеопатру. Поползала по животу, до сосков добралась, все как следует рассмотрела. „Яблоко хочешь?“ — спрашивает Клеопатру. „Ой, мне все еще жарко, нет, сейчас есть мне не хочется. Не уползай! Лучше поползай по мне, ты и вправду такая холодная“. А змее только того и надо, ползала она, ползала по Клеопатре, пока не залезла ей в дырочку. А назад выбраться не смогла. Там она жила себе, поживала, и Клеопатре хорошо было, потому что жара больше ее не мучила. Но тем временем у нее стал расти живот, потому что, как она думала, у нее скоро родится ребенок. Тогда ее живот разрезали, и оттуда выползла змея со змеенышами — не у Клеопатры ребенок родился, а змееныши у мудрой змеи. А злая Клеопатра умерла». Я все это слушал, хотя знал, чем дело кончится, и знал, что, когда он подойдет к концу, мы станем драться. «Это все глупости, это неправда!» Но мы с ним дрались и тогда, когда я рассказывал про дерево. Потому что дальше в моей сказке говорилось про то, как мы, наевшись до отвалу, улеглись на траву. «Но животы у нас были такие набитые, что мы даже глаз сомкнуть не могли. И вот лежим мы там и вдруг видим, что с одного дерева к нам склоняется ветка; это дерево было совсем такое же, как и все другие деревья, и ветка была точь-в-точь такая же, как ветки других деревьев. Вот только на той ветке, что клонилась над нами, на самом конце был один листочек, он-то и был особенный. Трепещет, кивает нам. Как будто говорит что-то, только мы не понимаем. Остальные листья совсем не шевелятся, только этот. Потом и он как бы замер. Мы испугались, ведь это должно было что-то значить, и что же будет теперь, раз мы ничего не поняли? Тогда он снова зашевелился. Но уже как-то совсем по-другому, как будто предупреждает, чего-то не хочет, словом, уже не кивал нам, как прежде. Притом все остальные листья по-прежнему оставались неподвижны. У листьев ведь особенная речь, да только, чтоб понимать ее, нужно испить волшебного напитка. Но листочек и в третий раз заговорил с нами. Начал как бы не торопясь, потом побыстрее, а под конец стал говорить совсем медленно, чтобы мы могли и вправду понять его. Да только мы все равно ничего не поняли. Пришлось отправиться на поиски волшебного напитка. Если б мы его поняли, могли бы остаться в том саду хоть до самой смерти». Он открыл глаза. Я подумал: сейчас будем драться. «Такого сада нет, и листья говорить не умеют, нет таких листьев на свете!» — «Умеют!» Если начинал он, я не сопротивлялся. Пусть колотит, как хочет. Если начинал я, опять побеждал он. Только мне все равно не нравилось, как он рассказывал о той женщине. Свое жилье мы устроили в нашем саду, но тогда же проделали и лаз в заборе, так что из их сада тоже можно было сюда пробраться. Если их не было, я сидел там и ждал. Просвет между кустами мы называли окном. Они купались в бассейне. Плавали в корыте. Потом поднялись на террасу, откуда обычно их звала мама в том своем халате. Играли в мяч. Я не мог долго подсматривать за ними, потому что они тоже поглядывали, там ли я. Потом я ушел домой. Я был один. Знал уже, что сегодня они не придут. Я мог сделать с нашим жильем что угодно. Хоть бы и разгромить все. Но я ничего не сделал. Когда я ждал, чтобы что-нибудь случилось, а ничего не случалось, мне становилось страшно. Страшно, что теперь так будет всегда. Дедушка два дня пролежал на кровати, потом его увезли. Все это время он лежал совсем неподвижно. Не заметил даже, когда на глаз ему села муха. Бабушка спала днем. Я стоял и смотрел, прислушивался: дышит ли. Иной раз мне вдруг примерещится, что она умерла, и я со всех ног мчался домой. Но бабушка не все время лежала в кровати. Когда собралась выйти, принарядилась. Надела свое шелковое платье с крупными цветами. Черное платье, в котором лежала, бросила на дедушкино кресло. На столе — белая шляпа и белая сумка. «Никуда не уходи! Меня к этим вызвали, свидетелем!» Она надела белую шляпу на голову и оглядела себя в зеркале. Напрасно я просил ее взять меня с собой. Она отвечала, что дело очень серьезное, ей там придется решить важную задачу. Какую — секрет. Я уже знал, что между двумя железными прутьями оконной решетки моя голова пролезет. Так что напрасно она дверь запирала. На террасе, с которой их мама звала Габор-Еву в своем халате, стояло двое мужчин. Они курили. В бассейне колыхалось на воде корыто. Мы вытаскивали из корыта затычку, корабль наш тонул, и пираты побеждали — такая была у нас игра. Я видел бабушкину шляпу, когда она подымалась по лестнице, держась за перила. Один из мужчин повел бабушку в дом; второй курил и оглядывал сад. Мне нравилось, что он не подозревает, как я близко и наблюдаю за ним. Иногда я думал о том, что бывают такие люди, которым и невдомек, что я живу на свете. Уже смеркалось. Долго никто не выходил. Я пытался представить себе, как обыскивают дом. Чердак. Подвал. Когда бабушка уходила, я рылся в шкафах. Сейчас мне страшно не хотелось, чтобы они обнаружили в подвале нашу вторую квартиру, ту, которую мы устроили зимой. Но тут вышел первый мужчина, он нес чемоданы, и под его ногами скрипел гравий. Наверное, они уезжают. Но потом вышел и второй мужчина. Они вместе вернулись в дом. А может, отец Габор-Евы приехал из Аргентины. На террасу вытащили стол. Бабушка все еще не появлялась. Мужчины опять вошли. Вдвоем выволокли кресло. Стулья просто вышвырнули, и они долго скользили по гладкому каменному полу. Один стул зацепился за что-то и опрокинулся. Кто-то громко чертыхнулся, но потом опять наступила тишина. Я думал только о том, что они переезжают или уезжают на лето. Но все-таки знал, что это не так. Ночью мне снилось, что посреди комнаты стоит дедушка, ему надо уйти. А я все надеялся, что, если обхвачу его, если заплачу, стану просить, чтоб не уходил, он останется с нами. Я прижимаюсь щекой к его лицу и чувствую, что на нем уже выросла щетина, ведь он всегда бреется через день. Потом пришла бабушка и сказала, что очень устала. Ног под собой не чует. Она положила на стол белую сумку и белую шляпу. «Мы нашли десять кило сахара, два бидона с жиром и тридцать пар нейлоновых чулок. Тридцать! А уж драгоценностей!» Она закрыла окно, чтобы мошкара не налетела на свет. Посулила рассказать легенду о Геновеве, если я без проволочек лягу в постель. Когда дедушка умер, бабушка налила в стиральный бак воды и поставила его греть на плиту. Она бросила в воду две горсти соли и черный порошок и стала все перемешивать. Ее коричневое, серое и темно-синее платья поварились в баке и стали черными. А я любил ее серое платье, когда она прикалывала на воротник золотую бабочку. Только шелковое платье с крупными цветами бабушка варить не захотела, оно осталось каким было — черные цветы на белом. Дома она лежала на кровати в том черном платье, которое было коричневым, но, когда выходила из дому, надевала другое черное платье, то, серое. Золотую бабочку она хранила в железной коробке и ключ всегда носила с собой. Из окна моей комнаты была видна калитка. Окна были очень высокие и с широкими подоконниками, дом-то старый. Когда бабушка уходила, я всякий раз бежал к окну и оттуда следил, как она скрывается на улице за деревьями. Иногда она возвращалась, если что-нибудь забывала. Очень боялась, что, покуда она спокойно стоит в очереди за продуктами, в доме случится пожар и я сгорю там. Я стал думать, как бы тогда все было. Между двумя средними прутьями оконной решетки моя голова как раз проходит. Я открыл бы окно и вылез. А если бы дом загорелся летом, окна вообще были бы открыты. Габор говорил как-то, со слов отца: лишь бы голова в щель пролезла, тогда уж бояться нечего — тело пролезет запросто. Но скорее всего он сам это выдумал, потому что его отец в Аргентине и посылает оттуда посылки. С шоколадом и инжиром. Стоять у окна приходилось подолгу. Бабушка иной раз даже с полпути поворачивала обратно, чтобы посмотреть, не горит ли фитилек в ванной. Дом и от фитиля загореться может. Там-то, у них в подвале, припрятаны две коробки спичек, но эти спички они раздобыли сами. Уходя, бабушка всякий раз запирала входную дверь и садовую калитку. И строго наказывала мне, чтоб не открывал никому, кто б ни явился. «Только отцу твоему!» Но никто никогда не приходил. Я представлял себе, как бы сам поджег дом. Если б найти два кремня, я бы стал тереть их друг об друга, пока не вылетит искра и не подожжет сухой мох. Так разжигал костер дедушка, когда остался в лесу один. Вот только не знал я, какой это камень — кремень. Я видел в кино, как разгорался пожар. Сперва вспыхнули занавески, потом пол, мебель. Все заполыхало. Из окон огонь перекинулся на крышу. На крыше стала лопаться черепица. На трубе — немецкая кошка. Но тут в замок опять угодил снаряд, и немецкая кошка сгорела. На улице не было ни души. Стоило мне шевельнуться, скрипел пол. Мне это нравилось, ведь я знал, что только я один слышу, как он скрипит. Я стал про себя представлять, как бабушка идет по улицам. Тут главное — не спешить, чтоб не получалось слишком быстро. Иногда я по два раза представлял ее на одной и той же улице, чтобы прошло больше времени. На самом верху крутой улицы — разрушенный дом, почти такой же, как замок в том фильме. Мы любим съезжать оттуда на санках. Когда бабушка добиралась до разрушенного дома, можно было не сомневаться: теперь-то я один. Я нарочно старался, чтобы пол поскрипывал, а то мне казалось, будто в комнате есть кто-то еще. И смотрит на меня. Всегда из-за спины, сколько бы я ни оглядывался. Может, он даже не из моей комнаты наблюдал за мной, а видел сквозь стену. Я и под кровать заглядывал. И дверь открывал, но кто-то ведь мог за ней прятаться! Так что приходилось и за двери заглянуть. Бабушка говорила, что от своей бабушки слышала про белую стенную змею. Живет эта змея в стене. Когда ночью становится совсем тихо, можно услышать, как она там шевелится, гложет стену. Если она выползет из стены — верный знак, что в этой комнате кто-то помрет. В каждом доме непременно живет стенная змея. Не зеленая, не коричневая и не пестрая, а совсем белая, как стена. Днем ее не слышно, только пол поскрипывает, стоит сделать шаг. В прихожей над телефоном висело большое зеркало, и мне было видно в зеркале, как я звоню самому себе. Из прихожей одна дверь вела в темную комнату, без окон; в ней было много шкафов. Здесь тоже было на стене большое зеркало. Я мог разглядывать себя в нем, когда наряжался в разные платья. Зеленое бархатное платье я хотел отдать Еве, пусть наденет, когда мы соберемся на вечеринку. За подкладкой этого платья, у пояса, что-то болталось, зашитое в мешочек. Мне подумалось, что там, под платьем, спрятаны деньги. Я срезал мешочки ножницами, посыпались серые кругляши. Я побежал к ним и рассказал, что это золотые монеты, их оставили нам наши предки, а серой краской покрыли затем, чтобы никто не прознал. Габор постучал одним кругляшом по зубу. Никакое это не золото, сказал он, а свинец, и его можно расплавить. Но сперва он позвал меня с собой, а Еве велел остаться: у нас, мол, мужской разговор. Ева не хотела оставаться в комнате одна. Но мы все-таки ушли в другую комнату, которую я прежде не видел. Ева убежала в сад, она плакала, потому что Габор ее ударил. Посреди комнаты стоял рояль с поднятой крышкой, которую придерживала палка. Я подошел к роялю и заглянул в него, потому что думал, затем мы и пришли. Бабушка рассказывала, что был когда-то у нее ребенок, но он умер, потому что плохо укрепили палку, которая придерживала крышку сусека, и крышка упала ему на голову. Мне очень понравилось нутро рояля, там были такие клевые проволоки. Но Габор хотел показать мне вовсе не рояль, он достал из шкафа бутылку, доверху наполненную чем-то белым. И сказал, чтобы я это понюхал. Запах был ужасно противный. «Ну-ка, что это? Не знаешь? Спорим, что не знаешь?» Он покрутил бутылку у меня перед носом. «Сюда сметану сливают, чтобы у мамы детей не было, понял!» В шкафу я увидел внизу большую картонную коробку. Чего там только не было — копайся себе сколько хочешь. Шелковые шарфы. Бархатная сумочка, расшитая жемчугом, а внутри мягкая кожа. Два веера. Коричневые фотографии. Письма в конвертах с розовой подкладкой. На фотографиях незнакомые мне люди. Какая-то женщина сидела на верблюде, а позади нее виднелись две пирамиды. На другой фотографии эта женщина облокотилась на парапет и смотрела на воду, она была очень грустная. И еще был снимок, на котором эта женщина была в шляпе с большими полями и смеялась. Эту шляпу, свернув, тоже хранили в коробке, но на фотографии шляпа была красивее, а у женщины был большой живот. Еще в коробке оказался бюстгальтер с двумя грудями из резиновой губки. Я помял их. От резины можно было оторвать кусочки, но для ластика она не годилась. Еще я нашел там какой-то инструмент, он был черный, длинный, жесткий, с дырочкой на конце. А на другом конце этой длинной черной штуковины был насажен мячик из красной резины. Я снимал его, наполнял водой, снова насаживал на черную трубку и нажимал — вода через дырочку так и брызгала. Иногда я вставал на стул и писал в раковину. В ванной я обнаружил потайную дверцу. В шкафу за халатами оказалась большая белая кнопка. Сперва я не сообразил, для чего она. Но до тех пор дергал, крутил ее, пока не понял. Я забрался в шкаф, закрыл за собой дверь. Сразу стало темно и жарко. Халаты странно пахли. Я на ощупь нашел кнопку. Дернул посильнее, и тогда в задней стенке шкафа открылась дверца, значит, отсюда можно выбраться под лестницу. Теперь я знал: если за мной погонятся, через эту дверку можно будет спастись, убежать. Однажды я открыл ее, но оказался не под лестницей. Из дома все уже ушли. Большое зеркало осталось на стене, в позолоченной раме. На окне темные занавески. Выглянуть наружу было нельзя. Когда они еще были здесь, кто-то сказал, что раздвигать занавески запрещается. Однако дверь осталась открытой, так что можно было пройти в другой зал. В зеркале я видел, как я иду. Я смотрел на себя и думал, что иду не я, а кто-то вместо меня, похожий. Но все-таки это был я. Я узнал на своих ногах туфли — золотые туфли на высоких каблуках из коробки, я забыл положить их обратно. И еще можно было разглядеть залы, один пустой зал за другим, и везде темные занавески. Свечи в люстрах уже не горели, но темно не было. Откуда-то пробивался свет. Я не боялся, бабушка не могла меня здесь заметить, но мне было не по себе, потому что я мог идти только вперед, а из каждого зала открывался следующий, потом следующий, точь-в-точь такой же, и я не знал, сколько мне еще идти, пока я дойду, наконец. Меня же куда-то послали. Если бы я мог выглянуть в сад, тогда, может, знал бы куда! Вдруг занавески шевельнулись. За ними не было окон! Почему? Все-таки я помнил, где что раньше стояло: ведь мы здесь жили, ведь меня просто послали, обратно, домой. За это время все изменилось. Покрылось пылью. Надо прибраться. Но веника нигде не было. Вдруг мне пришло в голову, что в последнем зале все осталось как было, в самом последнем, и я кинулся бежать через залы, и зеркало бежало за мной, я видел себя, как я бегу. В самом последнем зале и вправду ничего не изменилось. Там стояла кровать. И с нее как будто только что встали, большие перины отброшены, а на подушке и на простыне складки, вжимавшиеся в мое тело. На кресле лежала ночная рубашка, под ним стоял горшок, полный. Я лежал на кровати, через открытую дверь видел залы, много пустых залов, один за другим. На ночном столике подсвечник, книга и стакан воды. Вода покрыта толстым слоем пыли. Я быстро выглянул в окно. Шел дождь. Потрогал подушку — какая твердая. Потайная дверца за креслом осталась полуоткрытой. Я поскорее распахнул ее. И оказался в подвале, над моей головой все еще грохотал падавший стул. Сюда отовсюду сбегались трубы. Длинные извилистые трубы. Они спускались в колодец, но он был такой глубокий и темный, этот колодец, что не было видно дна, как я ни наклонялся над ним. Под лестницей тоже было темно, но не так, как в шкафу. Сюда мы отволокли старое кресло, у которого сломалась ножка, когда в него сел дядя Фридеш. Если бы мне сейчас железную лестницу, я, пожалуй, спустился бы в тот колодец. Они о чем-то говорили, но не со мной. Слышен был только голос дедушки. «Фридеш!» Я прислушивался, но ничего не понял. «Фридеш!» И чемоданы, все обклеенные разноцветными наклейками. Я постучал по чемоданам ладонью, и они гудели, как барабаны, каждый на свой лад. Здесь же была щетка, совок, метла и выбивалка, сплетенная из бамбука, — праккер. «Что, отшлепать тебя праккером?» На одной наклейке — пальмы под голубым небом. А еще была наклейка, на которой видно было только голубое море и небо, тоже голубое. Летела белая птица. «Море было чисто голубое, потому что на небе не было ни облачка, и мы шли совсем спокойно». Если ребенком был я, Габор любил рассказывать и про бурю. «Иногда мы видели кита. Они выскакивали из воды и выпускали из себя целый фонтан. Когда кит голодный, он и проглотить может. Они все вокруг парохода кружили, ведь киты, если захотят, запросто пароход обгонят. А люди думали, что могут спокойно их разглядывать. Это был преогромный корабль. Там и кино было, и театр, и теннисный корт. И над ним развевалось сто парусов, да еще сто малых парусов. Пассажиры стояли у борта и смотрели на китов, как вдруг один кит выпустил огромный фонтан, выпрыгнул из воды и откусил какой-то женщине голову. Так и захрустел своими зубищами. А женщина, будто ничего не случилось, все стояла у борта, только без головы. Тут люди кинулись вниз, внутрь корабля. Только я остался снаружи. Взобрался на мачту и подал сигнал. К счастью, никто здесь этого не заметил. Но вдалеке показался наш корабль. Он шел очень быстро. Капитан все не решался выйти из-за китов, только смотрел на него из маленького окошка. А пиратский корабль мчится к нам во весь дух! Пираты! Что делать? На пиратском корабле черный флаг. А я сигналил белым носовым платком. Тут и небо совсем потемнело. Пока пиратский корабль приблизился к нам, уже громыхало. Сверкали молнии. С неба падали лягушки. Капитан такого еще не видел. Волны перекатывались через палубу, а на гребнях — киты. Я подал последний сигнал. Капитан выскочил и хотел застрелить меня, но в эту минуту налетела волна и — бух! — я столкнул его в море. Тут пираты подвели свой корабль совсем близко и перепрыгнули на нашу палубу. Сразу кинулись обнимать меня, целовать. Весь наш огромный корабль разграбили. Взяли все, что было им нужно». Самые ценные наклейки я содрал с чемоданов ножом. Ту, что с пальмами, и голубое море отдал Чидеру, потому что он за них дал мне патрон. Чидер у отца воровал патроны. Лестница вела на второй этаж. Пока дедушка мог ходить, они с бабушкой жили на втором этаже. Дедушка спускался по лестнице медленно, держась за перила. Но переселяться вниз не хотел, потому что на втором этаже его кресло стояло возле окна и оттуда виден был весь сад, очень красивый. После обеда дедушка засыпал в своем кресле. Когда он уже не мог подниматься по лестнице, мы и внизу поставили ему кресло у окна, и здесь он тоже спал после обеда, как и наверху. Рот у него открывался, и он дышал так хрипло, как будто в горле у него что-то застряло. Бабушка будила его, пока он еще совсем не заснул. «Папа, не спи!» Дедушка с трудом приоткрывал глаза, но тут же засыпал снова. «Папа, вынь протез!» Дедушка рукой доставал изо рта свои зубы и клал их на подоконник. Иногда они падали за батарею. Тогда звали меня, и я искал, потому что они не могли наклоняться. Однажды протез разломился. Покуда его чинили, у дедушки не было зубов. Я боялся совать руку за батарею, ведь не видно было, что там. Как-то моя рука ткнулась в мягкий ком пыли. Дедушка смеялся. «Это половина только! Ищи вторую! Смотри-ка, мама, протез-то надвое разломился!» Пока протеза не было, он говорил так, словно жевал что-то. «У каждого своя доля: какая выпала тебе жизнь, ту и надо прожить. Нетерпеливые люди — несчастные люди. Это ты заруби себе на носу! Но что такое счастье? Кто знает? Счастье, если хочешь знать, можно сравнить с самой прекрасной женщиной. Если ты ее хочешь, если собрался заполучить ее, она только кокетничает, глазки строит, задом крутит, а сама не дается. Вот так-то. Если ты душу ее пожелаешь, она готова тебе тело свое отдать, если на тело позаришься, она душу к твоим ногам выкладывает. Всегда то, чего тебе не нужно. Так-то вот. Нетерпеливые потому несчастны, что вечно хотят чего-то, а получают что-нибудь совсем другое, то, чего совсем не желают. Вот почему счастье можно сравнить с самой что ни на есть красавицей. Тайна. Тут ум нужен, ум! Если держишься так, словно и внимания на нее не обращаешь, как будто и не думаешь ни о чем таком, она мигом к тебе явится, дух перевести не поспеешь. Хитрить, хитрить надо с жизнью. Обманывать всяко. Обманывать, вокруг пальца обвести, хоть и себя самого, если нужно! Я так и делал! Как будто и не просил ничего, и не желал ничего. Пусть себе идут годы, а я затаюсь под годами-то да и жду удобной минуты. Я так и делал! Ну и что? Чего я этим достиг? А ведь меня вечно высмеивали. Да только зря смеялись. Несчастные! Дурни! Главного не знают! Не знают, что счастье надо искать не снаружи, а внутри. Внутри. Понимаешь? В себе самом! В самом себе надо почувствовать свое счастье, а уж если почувствовал, не выпускать ни за что! Ни на миг! Если хотя бы на одну-единственную минуту отпустишь, выпорхнет твое распроклятое счастье и останутся вместо него одни слюни да сопли. Одни только желания и останутся, и будешь ты постоянно высматривать, какое еще наслаждение заполучить, и нет этому конца, потому как любое наслаждение ты все равно упустишь, возжаждав другого наслаждения. И тебе всегда будет чего-нибудь недоставать! Недоставать! Недоставать! А тогда что ж — остается тебе еще и еще хватать, жадно заглатывать, потому что тебе все мало! Всегда мало! И станешь ты жадная тварь, ты бездонная прорва, ты ненасытное брюхо, ты засранец, потому что тебе мало! Всегда мало! Вот тогда ты будешь страдать. Ты будешь страдать самым грязным страданием, ненасытный зверь, который все бы в себя запихал, пока не захлебнулся бы в собственной блевотине! Животное! Не человек! Животное! Но нет, страдание — это не ты. Ты — живое, полное жизни счастье, ты получаешь тогда, когда не просишь, ты наслаждаешься, когда и не ждешь того. Манна сыплется с неба. Но берегись! Если ты пожелаешь ее, не видать тебе никакой манны. Надо быть начеку. Настороже. Ждать. Не страдать! Понимаешь? Ты не страдаешь! Понял? Ты счастлив, доволен, ты рожден для счастья! Понимаешь? Если ты страдаешь — страдаешь не ты, это страдает в тебе плоть мироздания, слюнявое животное. Гони его прочь, беги от него! Ты счастлив. И пускай высмеивают тебя, болваны несчастные. Пусть себе потешаются над тобой, ты же слушай только голос твоего счастья. Оно внутри тебя. Гляди в себя. В душу. Вот сюда! Но только и это еще не все. Инстинкты! На улице Мадьяр были прежде бордели! А я, если хочешь знать, был уже мужчиной, двадцати четырех лет отроду, и — девственник! Насмехайтесь же! Несчастные! В двадцать четыре года я, мужчина, оставался девственником. И полон здоровыми желаниями. Но это всего лишь инстинкты! Этого нельзя! Не поддавайся! Нельзя этого, я не позволил инстинктам подменить настоящие страсти. Хотя вечером, в постели, как ни держался, меня так и захлестывало, если во сне проходила перед глазами голая женщина! Но все-таки не коснулся женщины ни разу и никогда собственной плотью не утолял свои желания — берег себя для того часа, который придет обязательно, я знал это! И я ждал! Вон сколько Ной тянул, девственность свою потерять не хотел, а уж как его понукали. Но он ждал. Ждал до тех пор, пока Бог нашел ему Нахаму, дочь Еноха, единственную женщину, которая со времен Иссахара осталась чистой в том развратном колене. Я ждал!» Иногда в комнату входила бабушка, она гремела стульями, чтобы привлечь внимание дедушки, если же он не желал замечать ее, тоже начинала кричать: «Ты опять за свое? Опять? Или ты не замечаешь, папа, что говоришь вслух?» — «Вслух? Ну и что из того?» — орал дедушка. «Ребенку! Про такое!» Но, чем громче хотела кричать бабушка, тем слабее звучал ее голос, а дедушкин — все громче. «Ребенку? Ребенок все знает! В ребенке уже кипит жизнь; жизнь как море: и одна капля уже море!» — «Перестань! Молчи уж со своим морем! — Голос бабушки падал до шепота, ее уже бил кашель. — Море!» Если дедушка почему-либо не мог говорить, он поникал в кресле, зажав ладони между коленями, и засыпал. Протез то на подоконнике, то на столе. Я любил сидеть и смотреть, как он спит. Рот его открывался, он тяжело дышал, как будто вместе с ним дышала вся комната. Я заметил, что, если долго сижу напротив него и слушаю его дыхание, тогда и сам начинаю дышать так же медленно, как он, и каждый вдох и выдох делаю с ним одновременно. Я старался тогда дышать по-другому, но не получалось — его дыхание вроде как руководило моим. И на меня тоже наваливался сон. А еще я заметил, что, если гляжу на него очень долго и не засыпаю, тогда он закрывает рот, чмокает губами и смотрит на меня. Мне нравилось, когда он на меня смотрит. Как-то раз днем в постели было совсем темно, а я не знал, наяву это или во сне, и стал шарить руками вокруг себя, словно искал, где я. Но было темно по-прежнему, и я не знал, где я. Я еще долго шарил руками вокруг и ничего не видел, только черноту, черноту, в которой ничего увидеть нельзя и нельзя понять, сплю я или нет, потому что все вокруг меня было горячее, и в черноте что-то другое черное потянулось схватить меня, и шарил я напрасно — знал, что на самом деле вовсе и не шарю, просто руки ощущали что-то, но только непонятно было, что именно, и кто-то, не знаю почему, ужасно громко кричал, но я не знал, кто кричит, потому что не знал, где я, и только когда зажглась лампа и стало светло, когда кто-то включил свет, только тогда я увидел, что сижу в своей комнате на кровати и ничего здесь не изменилось, а я, неизвестно почему, кричу, и на улице уже стемнело. И дедушка все так же смотрел на меня. В такие минуты дедушка никогда не кричал, он только поднял палец и что-то сказал. Потом велел подать ему его зубы. Я подал ему протез и сел на свое место. Он опять поднял палец. «Послушай! Слушай меня внимательно. Я должен сказать тебе, что совершил ошибку. Ошибся. Если бы тогда не прорубили дверь топором, если б тогда удалось, не пришлось бы мне сейчас просыпаться. Всю свою жизнь я ждал какой-то такой минуты, и вот она, кажется, уже тут. Ведь правда, я все еще здесь? Я сидел в собственной крови в ванне, дверь разрубили в щепки. Мне было двадцать лет, и я еще не знал. Не знал, что не было бы твоего отца и не было бы тебя. Или быть-то ты был бы, но не тот, каков есть. Потому что кровь моя, которая не вытекла тогда в ванну, перелилась в вас. Das ganze ist ein Dreck!»[4]
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Конец семейного романа - Петер Надаш», после закрытия браузера.