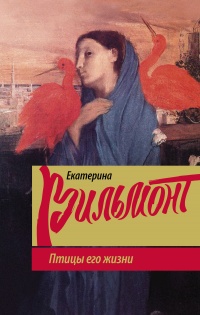Читать книгу "Мойры - Марек Соболь"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
У Хенрика был отменный вкус, все, что он покупал, было красивым и непременно высшего сорта. Автомобиль мы выписали аж из Америки, Хенрик сказал, что «ситроены» дрянные и тесные. Денег у нас тогда было много, Хенрик работал в министерстве, да и в кофейне дела шли на славу. Не пойму, почему сейчас так трудно сводить концы с концами, ведь кофейня моя не сильно отличается от прочих. Что-то испортилось в этом мире, даже Париж испортился, а может, это я просто старая стала…
Так вот, у Хенрика был хороший вкус, и все его женщины производили впечатление, словно он приобретал их в картинной галерее. Он не искал их, не добивался, не очаровывал, как Мишель, тот, что держит кафе на соседней улице. Мишель, он мастер обольщать, у него свои тайные методы, иногда он меня в них посвящает, рассказывая о своих победах. Я уже очень старая, и он не видит во мне женщину, самое большее — собеседницу, с которой можно поболтать по вечерам, когда ему не удается никого подцепить и он бывает один. Я тоже ему много всякого рассказываю, парень он умный и понимающий, хотя чего-то важного ему недостает. Со своими девушками он только спит, встретится несколько раз, а потом бросает, словно боится, что привяжется к одной из них, или она его крепко полюбит, а потом хлопот не оберешься. Может, он эгоист, а может, что-то плохое приключилось с ним в жизни, хотя ни о чем таком он не упоминал. А может, он просто еще не повзрослел, вот и ведет себя, как малое дитя из богатой семьи, — родители покупают ему столько игрушек, что он поиграет с каждой пару минут и сразу хватается за следующую и ни одну не способен по достоинству оценить. Мишель уродился красивым и неглупым, этих игрушек, этих женщин, он может иметь сколько пожелает, но ни одну не ценит и ни к кому не привязан, потому что знает: он легко может найти женщину покрасивее или поумнее — в любом случае, новую.
Хенрик таким не был. Женщины сами вешались ему на шею, хотя он ни к каким хитростям не прибегал и по-настоящему никого не соблазнял. Всем он был добрым другом, и мужчинам тоже, но сами подумайте, возможна ли дружба, обычная чистая дружба, между женщиной и мужчиной, если она красавица и вдобавок не дура, а он хорош собой? Когда люди сходятся так близко, помогают друг другу, любят бывать вместе, обмениваются подарками, спрашивают о здоровье, целуют друг друга на прощанье и при встрече в щеку или в лоб, то почему бы однажды не поцеловаться в губы, не обняться покрепче и не ощутить вкус и запах той, другой, особы? Почему бы в конце концов не прикоснуться друг к другу нежнее, а потом еще нежнее, не восхититься красотой рук, губ, волос, загорелых плеч? Вот так рано или поздно друзья становятся любовниками, иначе и не бывает, а если бывает, значит, дружба не настоящая, или живут далеко друг от друга, или что-то еще мешает им сделать этот шаг — тяжелая работа, болезнь, да мало ли что.
Женщин у Хенрика было не очень много, честное слово. И все были яркими, каждая на свой лад, даже та художница, жуткая уродина. Нос картошкой, глаза сошлись у переносицы, волосы жидкие, всегда жирные и нечесаные, но зато она рисовала такие удивительные картины, что их уже невозможно было забыть, стоило раз увидеть. Одна ее картина, по слухам, висит в Центре Помпиду.
Она вечно была без денег, вечно витала в облаках. Бывало, слова из нее не вытянешь, придет и разве что скажет, как у нас тут чудесно, ну еще спросит, почем кофе, а когда продавала какую-нибудь работу, то сразу все проматывала и опять сидела без гроша. Дома я держу две ее картины — Хенрик их купил. Наверняка он переплатил, и хотя они ему нравились, купил он их прежде всего потому, что ей позарез нужны были деньги. Выплачивал по частям — нарочно, чтобы она сразу все не пропила.
Как ее звали? Не помню…
С памятью у меня плохо стало. Часто не могу вспомнить какое-нибудь имя или название улицы. Это оттого, что я уже очень старая…
Многих его женщин я знала. У некоторых были ужасные мужья, толстые или глупые либо такие, которым плевать на своих жен, а с Хенриком эти женщины расцветали, как и я, ведь он был необыкновенным мужчиной, который умел угодить женщине во всех смыслах. Просто он был слишком мужчиной, одной женщиной такому не обойтись.
Он вызволял своих пассий из их ужасной скучной жизни — точно так же, как почтенный Хайм вызволяет из лавчонок на свет божий всякие безделушки. Они лежат там годами из-за небольшого изъяна или непомерной цены, а иногда просто потому, что не подходят нынешним временам и покупателям. Почтенный же Хайм умеет углядеть подлинное сокровище и превосходно торгуется; бывает, что платит он совсем немного. Потом он расставляет найденное добро у себя в квартире, печется о нем, чистит, полирует, приделывает отколотые носы и уши, переставляет вещичку по сто раз, пока она не почувствует себя на месте. Он дает этим штуковинам ощутить то, чего они лишились, пока лежали в пыли на полке, никому не интересные, давно забытые прежними хозяевами. И вот теперь они снова получают ласку и восхищение от старого симпатичного еврея. Любой, кто приходит к Хайму, тихонько садится посреди комнаты и первые несколько минут молчит, ведь в его квартире как в сказке, как на чердаке, полном сокровищ, как в альбоме со старыми фотографиями. Можно сидеть часами, оглядываясь вокруг, а потом медленно обойти комнату, дотрагиваясь до всяких диковинок, сдувая пыль, которой нет, и изумляться работе чьих-то проворных рук, работе, завершенной много, много лет назад…
Но о чем же я говорила?
Женщины Хенрика иногда приходили сюда выпить кофе, и я была наготове, ждала, что меня окинут высокомерным, презрительным взглядом, как любовница обычно глядит на жену, но такого ни разу не было. Порой мне даже казалось, что они посматривают на меня с любопытством, — уж не знаю, что Хенрик им про меня наговорил, но точно ничего плохого. Он меня любил. А я никогда не была ревнивой, потому что знала: он бы меня не бросил.
Внешне мадам Греффер была самой привлекательной из любовниц Хенрика. Даже сейчас проглядывает в ней прежняя красота, хотя ей уже семьдесят и очень уж она неухоженная. Иногда она смотрится в зеркало — вон в то, мадам Греффер всегда сидит за столиком у зеркала, за этим столиком сиживала сама Эдит Пиаф, ей-богу, не вру, — так вот, когда она смотрит на себя в зеркало, я украдкой поглядываю на нее и вижу, будто наяву, ее прекрасные светлые волосы, какими они были, пока не поредели, не потемнели, а потом и поседели. Вспоминаю ее профиль, звонкий девичий голос, ее модные наряды, от которых теперь остались одни лохмотья.
Когда мой Хенрик умер, мы частенько сиживали с ней вдвоем, здесь, в кофейне, и вспоминали, но не плакали. После войны, с тех пор как вышла из лагеря, я ни разу не плакала, и мадам Греффер в беседе со мной тоже слез не проливала, хотя по каким-то иным случаям могла и всплакнуть. Мы беседовали о моем Хенрике, каким он был мужчиной, какое у него было красивое тело, и хохотали, как две старушки-веселушки, потому что все воспоминания о нем были светлыми и добрыми, и даже умер он красиво, как и подобает настоящему мужчине, до последней минуты он оставался необыкновенным. Уж таков он был, мой Хенрик, что даже после смерти умел доставить женщинам радость, даже после смерти умел нравиться. Иногда мы вдруг умолкали, когда на ум приходила мысль, что ни одна из нас больше никогда его не обнимет, не вдохнет запаха его голой волосатой груди, и нас охватывала печаль, но только на минутку: ведь это хорошо, что Господь Бог не позволил Хенрику состариться, сгорбиться, что оставил его навеки мужчиной в расцвете сил, состоявшимся и любимым, который ушел, прежде чем его настигла старость, как она настигла нас, и меня, и Иоганну, то есть мадам Греффер. Он же успел улизнуть и сейчас, наверное, смеется где-то там, и ждет нас, и грустит, оттого что с каждым днем мы становимся еще уродливее и глупее, дряхлеем не по дням, а по часам.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Мойры - Марек Соболь», после закрытия браузера.