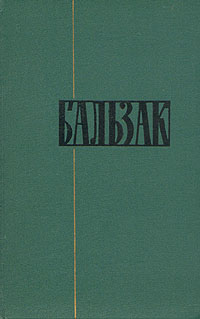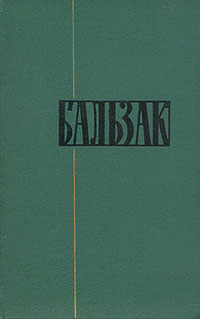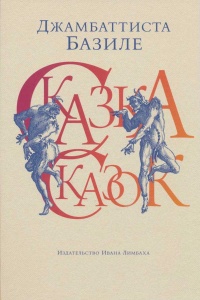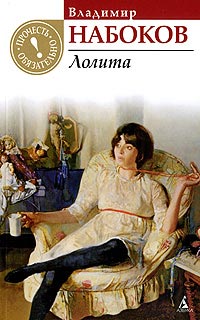Читать книгу "Старая дева - Оноре де Бальзак"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Она так усердно раздувала для него свои утюги, что в конце концов воспламенился и он сам, — съязвил тогда некий г-н дю Букье.
Эта ужасная клевета омрачила на склоне лет жизнь впечатлительного дворянина, тем более что, как покажет настоящее повествование, он пережил притом гибель давно лелеемой надежды, ради которой принес немало жертв. Г-жа Лардо сдавала шевалье де Валуа две комнаты в третьем этаже своего дома за умеренную плату — сто франков в год. Достойный дворянин, что ни день обедавший в гостях, возвращался домой только ночевать. Стало быть, расходовался он лишь на завтрак, неизменно состоявший из чашки шоколада, хлеба, масла и каких-либо фруктов, смотря по времени года. Он разводил огонь лишь в самые сильные холода, исключительно по утрам. От одиннадцати часов утра и до четырех часов дня он гулял, ходил читать газеты, делал визиты. Поселившись в Алансоне, шевалье сразу же честно признался в своей бедности, сообщив, что все его богатство заключается в шестистах ливрах пожизненной ренты, последних крохах былой роскоши, четыре раза в год высылаемых ему его бывшим стряпчим, у которого хранились соответствующие бумаги. И действительно, местный банкир каждые три месяца отсчитывал ему полтораста ливров, приходивших на имя шевалье из Парижа от некоего Бордена, последнего прокурора Шатле. Это стало широко известно по той причине, что шевалье просил первого, кому доверился, сохранить все в глубокой тайне. И г-н де Валуа извлек пользу из своего несчастья: в лучших домах Алансона ему было обеспечено место за столом и приглашение на все вечера. Его таланты игрока, рассказчика, человека любезного и благовоспитанного были настолько признаны, что вечер считали неудавшимся, если на нем не присутствовал этот единственный в городе тонкий ценитель обычаев света. Хозяева дома и дамы не могли обойтись без его одобрительной гримаски. Когда, бывало, старый шевалье скажет на балу какой-нибудь молодой женщине: «На вас сегодня восхитительное платье!», то эта похвала радовала ее больше, чем даже зависть соперницы. Никому, кроме господина шевалье де Валуа, не дано было с такой непринужденностью произносить некоторые выражения минувших лет. Сердечко мое, сокровище мое, горлица моя, владычица моя — все любовные ласкательные словечки 1770 года приобретали в его устах неотразимую прелесть; словом, только ему была дозволена некоторая выспренность. Его комплименты, на которые он, впрочем, был скуповат, завоевали ему благосклонность старушек; он льстил всем, даже чиновникам, до которых ему нужды не было. За игорным столом шевалье выказывал такт, какой был бы оценен везде; он никогда не сетовал на неудачу, хвалил игру своих противников, когда им не везло; нисколько не пытался поучать партнеров, показывая им, как лучше всего разыграть партию. Когда во время сдачи затевались скучные споры, шевалье жестом, достойным Моле, вытаскивал табакерку, устремлял взгляд на княгиню Горицу, с достоинством открывал крышку, разминал и встряхивал свою понюшку, растирал ее в порошок, насыпал горкой, как только карты бывали сданы, он набивал нос табаком и водворял княгиню в жилетный карман — неизменно в левый! Лишь дворянин славного века (в противовес веку великому) мог найти такой переход от презрительного молчания к насмешке, никому не понятной. Он садился за карты с горе-игроками — это было ему на руку. Подкупающее ровный нрав его давал многим повод говорить: «Я в восторге от шевалье де Валуа!» И речь и манеры — все у него, казалось, было выдержано в таких же светлых тонах, как и его внешность. Он старался никого не задеть — ни мужчин, ни женщин. Равно снисходительный к физическим изъянам и к недостаткам разума, он с помощью княгини Горицы терпеливо выслушивал людей, рассказывавших ему о мелких неурядицах провинциальной жизни — о недоваренном яйце, поданном к завтраку, о кофе, в котором свернулись сливки; о смехотворных подробностях, касающихся здоровья, о внезапных пробуждениях, снах, визитах. Для того чтобы разыграть сочувствие, у шевалье был про запас жалостливый взгляд и классическая поза, которые делали его прелестным слушателем; он вставлял: «Ах! скажите на милость! ну, и что же?» — всегда изумительно кстати. Так до самой своей смерти он не дал никому заподозрить, что, пока катилась эта лавина глупостей, он отдавался воспоминаниям о самых волнующих эпизодах своего романа с княгиней Горицей. Подумал ли кто хоть раз об услугах, какие может оказать свету угасшая страсть, и о пользе любви как источнике общительности? Этим, пожалуй, объясняется, почему шевалье оставался баловнем целого города, несмотря на постоянную удачу в картах, — ибо, уходя из гостей, он всегда уносил с собою франков шесть выигрыша. Проигрыши, о которых он, надо заметить, громко трубил, случались у него очень редко. Все, кто знавал его, сходятся на том, что никогда и нигде, даже в египетском музее в Турине, им не попадалась такая очаровательная мумия. Нет другой страны во всем мире, где паразитизм облекался бы в столь пленительную форму. Не было случая, чтобы самое глубочайшее себялюбие выражалось у кого-либо другого в более приятном и безобидном виде, нежели у этого дворянина; оно было ничуть не хуже самоотверженной дружбы! Если кто-нибудь приходил к г-ну де Валуа с просьбой о небольшой услуге, требовавшей некоторых хлопот, то уходил он от славного шевалье совершенно влюбленным в него, а главное — уверенным, что тот бессилен помочь или даже испортил бы все дело своим вмешательством.
Чтобы объяснить загадку безбедного существования шевалье, историк, к которому Истина, эта жестокая подстрекательница, пристает с ножом к горлу, вынужден вспомнить, как недавно, после знаменательных и печальных июльских дней, Алансон узнал, что сумма выигрышей г-на де Валуа за каждые три месяца составляла около ста пятидесяти экю и что изворотливый шевалье отважился посылать самому себе пожизненную ренту, дабы не сойти за неимущего в краю, где любят основательность. Многие его друзья (его уже не было в живых, заметьте!) с пеной у рта оспаривали это обвинение, называли все это баснями, считая, что шевалье был благородным, достойным дворянином, оклеветанным либералами. К счастью для ловких картежников, среди зрителей всегда найдется кто-нибудь, чтобы их поддержать. Не решаясь оправдывать постыдное поведение, эти почитатели наотрез отрицают его; не приписывайте им упрямства, — попросту у этих людей есть чувство собственного достоинства: правительства подают им пример такой добродетели, хороня своих мертвецов по ночам и не служа торжественных молебнов, когда проиграна битва. Если шевалье позволил себе пуститься на уловку, которая, впрочем, снискала бы ему уважение шевалье де Грамона, улыбку барона де Фенеста[5], рукопожатие маркиза де Монкада[6], разве он из-за этого стал менее учтивым или менее остроумным гостем, не столь незаменимым партнером, не столь восхитительным рассказчиком — усладой всего Алансона? Чем, собственно говоря, этот поступок, вполне согласованный с законами свободной воли, противоречит изысканным дворянским нравам? Когда многие вынуждены заботиться о пожизненной ренте для посторонних, что может быть естественнее, чем платить ее добровольно своему лучшему другу? Но Лай умер... К концу каких-нибудь пятнадцати лет подобного образа жизни шевалье собрал десять тысяч и несколько сот франков. С возвращением Бурбонов один из его давнишних друзей, маркиз де Помбретон, бывший лейтенант черных мушкетеров, вернул ему, по словам шевалье, тысячу двести пистолей, которые некогда, отправляясь в эмиграцию, взял у него в долг. Это событие наделало шума и впоследствии приводилось в пример как довод против насмешек, в которых изощрялась газета «Конститюсьонель» по поводу того, как платят долги некоторые эмигранты. Если кто-нибудь заговаривал при шевалье о благородном поступке маркиза де Помбретона, у бедняги краснела даже правая сторона лица. Все радовались тогда за г-на де Валуа, державшего совет с людьми денежными, как ему лучше употребить эти крохи своего состояния. Доверившись судьбам Реставрации, он поместил деньги в бумаги государственного казначейства, когда рента шла по пятьдесят шесть франков двадцать пять сантимов. Господа де Ленонкур, де Наваррен, де Верней, де Фонтэн и Ла Биллардиер, которые, по словам шевалье, знали его, выхлопотали ему пенсию в сто экю из королевской казны и послали крест святого Людовика. Навсегда осталось неизвестным, какими путями удалось старому шевалье добиться, чтобы его титул и звание были, таким образом, торжественно освящены, — одно несомненно: грамота о пожаловании креста святого Людовика за его заслуги в католических армиях Запада давала ему право на чин полковника в отставке. Следовательно, кроме мнимой пожизненной ренты, которая никого тогда не смущала, у кавалера была тысяча франков действительного годового дохода. Несмотря на такую перемену к лучшему, он остался верен своему образу жизни и своим привычкам; только красная ленточка украсила фрак каштанового цвета и, так сказать, довершила облик дворянина С 1802 года шевалье запечатывал свои письма очень старой золотой печаткой, довольно скверно вырезанной, но по которой Катераны, д'Эгриньоны, Труавили могли видеть, что герб его имеет французский щит, рассеченный вертикально на две равные части: на красном поле — двойные косые полосы и на красном поле — пять золотых, крестообразно сомкнутых вершинами, ромбоидальных фигур; верх щита черный с серебряным крестом; увенчан щит рыцарским шлемом, девиз — Valeo[7]. При наличии такого благородного герба тому, кто слыл побочным отпрыском рода де Валуа, можно и должно было садиться во все королевские кареты на свете.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Старая дева - Оноре де Бальзак», после закрытия браузера.