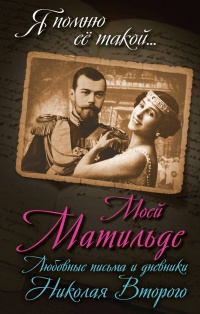Читать книгу "Николай Гоголь - Анри Труайя"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
За весь следующий день Гоголь проглотил только несколько капель воды с красным вином. Это была первая неделя Великого поста. Для всего города наступил период говения и подчеркнуто строгого образа жизни. Колокола церквей звонили лишь через длительные промежутки времени, и звук был заунывный и печальный. Священники совершали богослужения в траурных ризах. Двери императорских театров закрылись. На базарах тоже царил пост – продавались лишь сушеные грибы, соленые огурцы, квашеная капуста да маринады. Некоторые набожные семьи покрывали мебель в домах чехлами и занавешивали картины светского содержания. Даже не покидая своей комнаты, Гоголь физически ощущал этот порыв к покаянию, охвативший весь город. Он чувствовал его сквозь стены, и его мысли, и так блуждающие во мраке, совпадали с важностью и мрачностью периода, переживаемого христианскими народами. Его близкие друзья беспокоились, они навестили его: М. П. Погодин, С. П. Шевырев, М. С. Щепкин. Он принял их без каких-либо проявлений радости, лежа на диване, выслушал их, ничего не ответил и через минуту прошептал: «Извините, дремлется что-то».
«В положении его, – напишет Шевырев, выйдя от него, – мне казалось более хандры, нежели действительной болезни».
В понедельник вечером, 11 февраля, у графа Толстого в домовой церкви служили всенощную. Гоголь едва смог дойти туда, останавливаясь на ступенях, присаживаясь на стуле, однако, сделав огромное усилие, простоял, шатаясь, всю всенощную, и со слезами на глазах молился.
Ночью на вторник (с 11 на 12 февраля) он долго молился один в своей комнате перед образами. Он так и не сомкнул глаз. В три часа ночи он позвал своего мальчика, малороссиянина, который спал, свернувшись калачиком за стенкой, и спросил, тепло ли в другой половине его покоев.
«Свежо», – ответил тот.
«Дай мне плащ, пойдем, мне нужно там распорядиться».
И он пошел, со свечой в руках, сгорбившись, неуверенным шагом. Тихонько, словно тать, проскользнул он в соседнюю комнату.
На каждом шагу он крестился. Его горбатая тень двигалась по потолку, разбиваясь в углах. Когда они дошли до печки, он велел мальчику открыть трубу, как можно тише, чтобы никого не разбудить, и подать из шкафа портфель. Из портфеля он вынул связку тетрадей, перевязанных тесемкой: рукопись второго тома «Мертвых душ», несколько глав третьего тома, кое-какие еще работы. Эти бумаги тяготили его. Тяготили, словно непрощенные грехи. Необходимо было от них избавиться как можно скорее. Чтобы предстать перед Господом чистым. Он положил все эти бумаги в печь и поднес к ним свечу. Огонек загорелся, обгорели края одного листка, потом вспыхнуло все ясным пламенем, наглым и победительным.
«Барин! Что это вы? – закричал мальчик. – Перестаньте! Эти бумаги еще пригодятся!..»
«Не твое дело, – ответил Гоголь. – Молись!»
Догадавшись о трагедии, мальчик расплакался и снова стал умолять своего хозяина вынуть бумаги из огня. Гоголь не обращал на него внимания. Может быть, он думал в эти минуты о том далеком времени, когда он сжег все экземпляры «Ганца Кюхельгартена»? Что лучше огня может уничтожить следы грехов? Но на этот раз листы лежали слишком плотно. Огонь погасал после того, как обгорели углы у тетрадей. Неудовлетворенный, Гоголь извлек из печи полуобгорелую связку и, обжигаясь искрами, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню. Потом снова зажег свечой свои рукописи. Наконец пламя их охватило.
Яркий свет ослепил Гоголя. Сидя перед открытой печкой, он смотрел, как извиваются и тускнеют строки, написанные его рукой. Чичиков возвращался в ад, откуда ему уж не суждено, видимо, выйти. Но сколько лет труда уничтожено за несколько минут! Что ж, так повелел Бог. А что, если дьявол? Глубоко задумавшись, он долго сидел неподвижно на стуле, как загипнотизированный глядя в пространство, повесив голову, сложив руки на коленях, подобно птице со сложенными крыльями, и ждал, когда все сгорит и истлеет. Тогда, перекрестясь, он поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал.[615] Некоторое время спустя он велел позвать графа Толстого и сказал ему прерывающимся голосом, указывая на кучку пепла:
«Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен, – вот он к чему меня подвинул! А я было там много дельного уяснил и изложил. Это был венец моей работы; из него смогли бы все понять и то, что неясно у меня было в прежних сочинениях… А я думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали, что хотели. Теперь все пропало». – «Это хороший признак, – прежде вы сжигали все, а потом выходило еще лучше; значит, и теперь это не перед смертью… ведь вы можете все припомнить?» – «Да, – отвечал Гоголь, положив руку на лоб, – могу, могу; у меня все это в голове».[616]
Он прекратил лить слезы. Черты его лица оживились, он укрепился душой. Зачем он солгал графу, сказав, что сжег рукописи по ошибке? Он прекрасно знал, что именно было в тех тетрадях, что он бросил в огонь.
Но он всегда скрывал свои истинные намерения и любил неверно объяснять свои поступки. Каждый раз, как он изрекал какую-нибудь неправдоподобную ложь, ему казалось, что он защищает себя от обольстительной, хотя и очевидной истины, помрачающей зрение.
Во всяком случае, после этого искупительного жертвоприношения проблема, которая его мучила, осталась нерешенной. В то время, как он думал, что порывает все узы, связывающие его с людьми, те же сомнения терзали его мозг: уничтожая эту ненужную писанину, кому же он повиновался – Богу или дьяволу, который, лишив человечество его произведения (пусть и несовершенного), лишил его современников ступени к христианству, то есть возможности избавиться от каких-то дурных инстинктов? А не оскорбляет ли он Всевышнего, отказываясь принять мир таким, каким он его создал, одновременно белоснежным и черным от грязи? Художник должен сначала сам обратиться к Христу, а потом с помощью посланного ему Богом таланта привести к нему и других. Имел ли он право отречься от этого Божественного дара, стремясь достичь нравственного совершенства и общения с Богом? Кто сумел бы ответить на эти вопросы: ни отец Матвей, ни митрополит Филарет, ни старцы из Оптиной пустыни не могли понять мятущуюся душу Гоголя и не могли бы его просветить. Раздираемый противоречивыми чувствами, будучи не в состоянии осознать, чего же именно Бог ожидает от него, он не видел больше причин влачить свое существование среди людей. Смерть и привлекала его, и в то же время пугала. Как и в детстве, ему случалось слышать голос, который доносился откуда-то издалека и называл его по имени.
В последующие дни он впал в прострацию. Сидя в кресле, протянув ноги на другой стул, прикрыв глаза, он не реагировал на суету и беспокойство его друзей, которые пытались его утешить. «Надобно же умирать, а я уже готов, и умру», – сказал он однажды вечером Хомякову. А когда граф Толстой, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей, заговорил с ним о матери и сестрах, он возражал с благоговейным изумлением: «Что это вы говорите! Можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте?» Потом он распорядился своими карманными деньгами, отдав одну часть на бедных, а другую – на церковные свечи.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Николай Гоголь - Анри Труайя», после закрытия браузера.