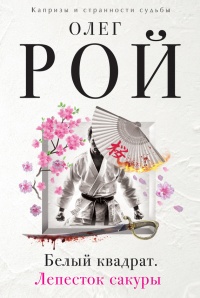Читать книгу "Погружение во тьму - Олег Волков"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мне удалили аппендикс. Операция прошла легко, и я полеживаю расслабленно и умиротворенно. Отчасти потому, что расписался в уведомлении об окончании следствия. Иначе говоря, знаю, что меня не станут больше таскать на допросы и дополнительно «шить» — по перенятому у уголовников словечку — какое-нибудь состряпанное дело. Следователи, видимо, решили: наскреб-лось достаточно, чтобы Тройка или Особое совещание уцепились за видимость провинности и могли «по совести» влепить мне срок. Приобретенные за четыре месяца тюрьмы опыт и знания позволяли угадать исход: мне предстоит трехлетняя высылка, к какой обычно присуждают «болтунов», как окрестили «агитаторов» — рассказчиков анекдотов и веселых неосмотрительных людей, отпускающих острые шуточки по поводу порядков. С такой перспективой я вполне примирился. С воли передали, чтобы я выбирал Ясную Поляну, где меня устроят друзья семьи.
Итак, я ждал. Коротал как мог время и воображал будущее. Судьба, думается, распоряжается так, чтобы я взялся всерьез за дело: от дилетантских попыток писать перешел к серьезной литературной работе. Скрашивал ожидание и близкий мне человек.
Георгий Михайлович Осоргин был несколько старше меня. Уже в четырнадцатом году он новоиспеченным корнетом отличился в лихих кавалерийских делах. Великий князь Николай Николаевич лично наградил его Георгиевским крестом.
Осоргин принадлежал к совершенно особой породе военных — к тем прежним кадровым офицерам, что воспринимали свое нахождение в армии на рыцарский, средневековый лад, как некий возвышенный вид служения вассала своему сюзерену. Осоргин боготворил великого князя. Шеф полка, да еще царский дядя, член священной семьи помазанников Божиих, Николай Николаевич облачался Георгием в какие-то недоступно-чистые ризы, и всякий поступок великого князя, его высказывания, привычки и манеры в передаче Георгия приобретали особый, высший смысл.
«Его высочество», как нередко называл он Николая Николаевича, был и лучшим наездником в русской кавалерии — «А это что-нибудь да значит, дорогой мой, при наших-то кентаврах!», — обожаемым командиром и отцом солдатам, примером преданности традициям русской армии.
В роковые первые месяцы войны гвардейская кавалерия, заведенная бездарным генералом Безобразовым под немецкие пушки, была разгромлена. Уцелевшего Георгия ненадолго причислили к штабу Верховного Главнокомандующего — великого князя, — и он «имел счастье» выполнять собственные приказания Николая Николаевича. К традиционному преклонению прибавилась личная преданность. То был кульминационный период жизни Осоргина.
Всякую крупицу воспоминаний о великом князе он берег свято.
…Вот Николай Николаевич, задержавшись в дежурной комнате, напомнил Георгию, что они однополчане — великий князь не только был шефом Конного полка, но некогда командовал им, — и расспросил его о старых офицерах. И Георгий, воспроизводя эту краткую сцену, переживал ее неповторимость. Голос его звенел… И мне видятся со стороны саженная сухопарая фигура, суровое лицо главнокомандующего и миниатюрный, худенький Георгий, вытянувшийся в струнку и снизу вверх взирающий на своего кумира. Он — кумир, — всегда резкий и требовательный к офицерам, тут, при встрече, напомнившей молодость, оттаял и говорит вежливо, мягко, как умели все Романовы…
Убежденный, не ведающий сомнения монархист, Георгий был предан памяти истребленной царской семьи. Как раз он был в числе офицеров, участвовавших в попытке ее спасти, был выдан и присужден к расстрелу. По какому-то случаю его амнистировали, а спустя немного лет снова схватили.
Приговоренный к десяти годам, Георгий отбывал срок в рабочих корпусах Бутырской тюрьмы. Должность библиотекаря позволяла ему носить книги в больничную палату. Будто перечисляя заглавия иностранных книг, он по-французски передавал мне новости с воли, искоса поглядывая на внимательно и тупо слушающего нас надзирателя.
Именитый, старинный род Осоргиных вел свою генеалогию от св. Иулиании. Приверженный семейным традициям, Георгий наследственно был глубоко верующим. Да еще на московский лад! То есть знал и соблюдал православные обряды во всей их вековой нерушимости — пел на клиросах и не упускал случая облачиться в стихарь для участия в архиерейском служении…
Как-то Георгий зашел проститься.
— Слава Богу, удалось-таки выхлопотать перевод в лагерь, — с облегчением сказал он. — Отправят на Соловки. На Соловецкие острова! Чистое небо, озера… Святыни наши. Ходить ведь буду по какой земле? На ней отпечатки стоп Зосимы и Савватия, митрополита Филиппа…
От него же я узнал: справлявшиеся обо мне в прокуратуре близкие подтверждают, что меня вышлют.
Воистину, «что нашего незнанья и беспомощней, и грустней…» Я отбыл на Соловках два неполных срока — и вернулся. Осоргин нашел там свою смерть. Вскоре после своего водворения в лагерь… «Кто смеет молвить «до свиданья» чрез бездну двух или трех дней?»
…В один день со мной такую же операцию аппендицита сделали моему соседу по койке Махмуду Мамедову, уроженцу Закавказья. Случайная и недолгая эта встреча запомнилась навсегда.
В то время в Бутырке их было около трехсот, ссылаемых на Соловки членов партии мусаватистов. Цвет тюркской — по-позднейшему, азербайджанской интеллигенции… Мне открылся мир неведомый и своеобразный.
Мир небольшого народа, отчаянно отстаивающего свою самостоятельность. Свои традиционные воззрения и обычаи дедов.
Когда потом пришлось бок о бок жить с мусаватистами на Соловках, я видел, каким сыновним уважением окружены у них седоголовые, как заботливо следят старшие, чтобы никто не был обделен за братской трапезой, как внимательны к тем, кто ищет уединения для молитвы… По ним я мог судить, насколько далеко зашло за минувшее десятилетие одичание русского общества. Как ожесточились характеры по сравнению с окраинным народом, куда позднее проникли и где на первых порах осторожнее внедрялись заповеди новой морали.
Смуглый, почти черный на белизне постели, Махмуд сидит, скрестив по-восточному ноги. Он рассказывает о своем крае.
Хотя Махмуд был учителем в районном городке, в нем так очевидна слитность с природой. И чудились мне в певучих интонациях его голоса приглушенные звуки пастушьего табора, разносящиеся над горными пастбищами и пустынными ущельями его родного Карабаха.
Веснами всей семьей, с барантой, коровами, с навьюченными домашним скарбом лошадьми откочевывали в горы, на пастбища, к заснеженным вершинам. И там, в шатрах, устланных коврами, подолгу жили, изготовляя сыры и молясь Аллаху. Месяцы жизни под близкими звездами, в сосредоточенной тишине пустынных гор — и осеннее возвращение в долины, к людям, в мир насилия и противоречий. Они вступали в него, и постепенно размывались накопившиеся в душе примиренность и покой, меркли ощущения сына земли, смиренно склоненного перед начертаниями правящей миром Высшей Духовной Силы…
События захлестнувшей Россию революции разливались по Закавказью, наслаиваясь на местные соперничества и национальную рознь. Обстановка эта развязывала руки для сведения счетов между кланами и общинами, для расплаты по старым обидам. Махмуд видел в преследовании мусаватистов кровавую расправу с личными врагами ставленника Москвы Багирова, тогдашнего азербайджанского проконсула.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Погружение во тьму - Олег Волков», после закрытия браузера.