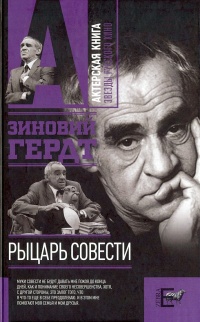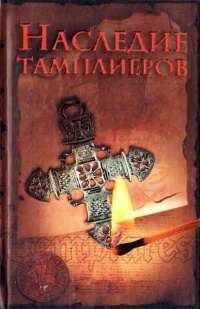Читать книгу "Бездумное былое - Сергей Гандлевский"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Решительно, как и с зоопарком в отрочестве, вмешалась мама. Она посетовала на беспутного пишущего сына сотруднице, женщине прелестной и с гуманитарными запросами и знакомствами. Та навела справки и достала телефонный номер профессионального переводчика Юрия Петрова. Дверь мне открыл обаятельный еврей, скорбными складками у рта и крупными ушами напоминающий большую грустную обезьяну. Сразу после приветствия он спросил, согласен ли я выпить водки без закуски, поскольку до холодильника из-за ремонта не добраться (действительно в квартире негде было ступить). Я был согласен. Он просмотрел мои переводы, одобрительно кивнул. Спросил, как у меня обстоит дело с публикациями. Я назвал журнал «Континент». «Это нехорошо», — сказал он без осуждения, будто для справки. Никаких практических предложений, включая выпить по второй, не последовало, и я засобирался. Уже в прихожей я, как бы извиняясь, признался, что никогда не слышал о нем. «Вообще-то меня зовут Юлием Даниэлем», — сказал хозяин. Вот такого покровителя нашла мне мама.
История имела симметричное и невеселое продолжение. Во второй половине 80-х поэт и журналист Илья Дадашидзе спросил, нет ли у меня лишних подстрочников для Даниэля: тот смертельно болел, и Дадашидзе надеялся отвлечь его работой от мрачных мыслей.
Понемногу, методом проб и ошибок в 1986 году я стал членом профессионального союза литераторов. Мог и не становиться: плановое издательское дело, дружба народов, равно как и уголовное преследование за тунеядство, доживали последние годы.
* * *
Но я забежал вперед. В 1982 году мне стукнуло тридцать. Затянувшаяся молодость пошла на убыль, с нею и легкость. Куража, позволявшего свысока смотреть на бытовую и социальную неприкаянность, становилось все меньше. Неряшливое слово «безнадега» все чаще просилось на язык. В том же году Кенжеев уехал в Америку, Кублановский — в Европу. На мой вопрос старику Липкину, долго ли простоит советская власть, он ответил: «И-и-и, Сережа, об этом вас спросят еще ваши внуки». Засобирался Сопровский, ничего против эмиграции не имел и я. Не помню, как далеко зашли Сашины с женой сборы, но мой вызов пропал, хотя и был послан, судя по трем — раз в полгода — вещевым посылкам от неизвестного голландского адресата. (Зная, что в СССР человек, собравшийся эмигрировать, лишался работы и средств к существованию, какие-то фонды таким способом поддерживали его.)
* * *
В 1983 году я женился. О жене своей я могу говорить долго, поэтому скажу коротко, памятуя о поговорке «Умный хвалится старым батюшкой, а дурак — молодой женой». Лена из той породы хрупких женщин, которые одним прекрасным утром выводят жеребца из стойла и, днюя и ночуя в седле, предводительствуют крестьянской войной. А пока в миру она — керамист, скоро тридцать лет удивляющая меня муравьиным тщанием, трудолюбием и сосредоточенностью. Остатки неукротимого темперамента Лена тратит на детей, быт, мои художества и презрение к родине. И конечно, большой промах России, что она не сумела заслужить уважения такой благородной и верной женщины. Врожденным чудачеством, прямодушием и неумением приспосабливаться к людям и обстоятельствам она похожа на Сопровского, который меня с ней и познакомил.
Через год после нашей свадьбы в ужасных и долгих муках умерла моя прекрасная мать. Иногда мама снится мне: то мы разговариваем и мне надо скрыть от нее, что она мертва; то оказывается, что она где-то там жива все эти годы, а я по сердечной черствости забываю навестить ее. После таких снов я полдня не могу прийти в себя.
Лишась материнского участия, я тотчас обзавелся жениным, вроде как был передан с рук на руки. Получается, что я ни дня в жизни не был по-настоящему одинок, не знаком, так сказать, с предметом, что бы я там под настроение себе ни выдумывал.
Вскоре появились дети: сперва дочь, потом сын. Через год-другой родственных дрязг, связанных с квартирным вопросом, мы обзавелись своим жильем — двумя комнатами в коммунальной квартире. Наше первое самостоятельное семейное время пришлось как раз на историческую пору — рубеж 80-90-х годов, — и было забавно наблюдать, как в коммунальном коридоре одновременно одевались два отца двух семейств: я — на демонстрацию, сосед-милиционер — туда же, но в оцепление.
Под впечатлением от материнской смерти я надумал креститься. Сам ход мысли не был для меня нов: русская литература, чтение отечественных философов, особенно Льва Шестова, книжная или не очень религиозность друзей и знакомых, наконец собственные раздумья и чувства год за годом делали свое дело. Конфессия была мне безразлична, но недавнее горе повело меня в православную церковь. Моя русская мать, внучка попов, в сущности, прожила свою частную жизнь в положении национального меньшинства (хотя это ничуть не тяготило ее), и мне захотелось взять сторону матери хотя бы теперь. Можно сказать, что я тогда ощутил последний на своем веку всплеск почвеннических чувств.
К нынешнему времени моя религиозность изрядно выдохлась. Причины три, перечислю их в порядке возрастания. Первое. Я так и не сумел освоиться в церкви — невежество мое оказалось непроходимым, а отстаивать службы для галочки неловко. Второе. Я прожил немассовую жизнь. Мои вкусы, поступки, друзья, суждения вряд ли близки и симпатичны большинству. Почему же в такой заветной области земного существования, как загробные надежды, я должен быть заодно с людьми, с которыми мы не сумели найти взаимопонимания? И последнее, главное. Я не могу смириться со случайностью и бессмысленностью беды, не способен распознать в ней заслуженной кары. Ужасные болезни детей, стихийные бедствия, наобум губящие людей, ничуть не хуже остальных, и т. п. разом выбивают мои мысли из религиозной колеи. Разговоры про непостижимый промысел Божий уместны и оправданны в устах человека, испытывающего вдохновение веры. Но для человека трезвого, вроде меня, они были бы ханжеством и бесчеловечностью под личиной набожности. Лучше, честно и не мудрствуя, сойтись с самим собой, что Бога или нет вовсе, или Он не имеет никакого отношения к здешним представлениям о добре и зле, какими мы живем, пока живы. Иногда мне кажется, что отношения человек/Бог аналогичны отношениям персонаж/автор. В таком случае и у персонажа есть право сказать Автору в свой черный день: «Ужо тебе!»
Это, скорей всего, скверное богословие, но другое мне не по уму. При этом я не материалист: материализм — ничуть не менее фантастическое объяснение мира, чем религия. По всей видимости, подобное умонастроение называется агностицизмом. Пусть так.
* * *
Между тем к власти пришел Горбачев, и наступали новые времена. Поначалу я считал, что уж лучше старые кремлевские маразматики с мочеприемниками, чем моложавый бессвязный говорун. Но внезапно и лавинообразно без видимых причин «тысячелетний рейх» стал осыпаться и оседать. Сперва не верилось, но что-то наконец дошло до меня, когда в 1988 году я увидел в книжном магазине в Бронницах среди букварей и разливанной «угрюм-реки» том Владислава Ходасевича «Державин» (всего несколько лет назад тот же Семен Израилевич Липкин давал мне его на сутки-другие почитать в «тамиздате»). И пошло-поехало! Я перестал жалеть, что мой вызов перехватили, а азартный Сопровский свернул эмиграционные хлопоты. «Раньше авантюрой было уезжать, теперь — оставаться», — объяснял он.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Бездумное былое - Сергей Гандлевский», после закрытия браузера.