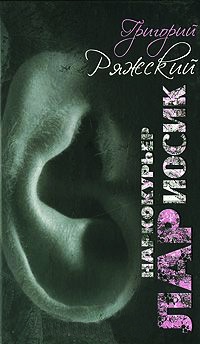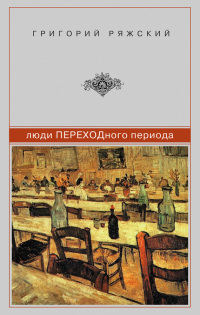Читать книгу "Человек из Красной книги - Григорий Ряжский"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В институте, учитывая её медаль, пошли навстречу и предоставили койку в комнате на троих, хорошо понимая, что очередному набору молодого Политеха, когда, по сути, преподавательский состав всё ещё не окончательно укомплектован полноценными кадрами, когда не хватает учебных пособий, лабораторного оборудования, да и самих помещений, готовых стать полноценными аудиториями, требуются студенты как можно более способные – что им недодадут в этих стенах, то они, умненькие, доберут сами, и никто, получив диплом вуза, не останется в обиде.
Отец, поставленный в известность насчёт её отдельного обустройства в центре города, не то чтобы обиделся или заметно огорчился – его просто слегка кольнуло, чего прежде он никогда не испытывал. Ничего не сказал, понимающе мотнул головой, сообщил лишь, что в первый же отпуск поедет в Каражакал, выписывать их оттуда уже насовсем, чтобы избежать дальнейшей временной прописки на новом месте, а заодно перевезти маленьким грузовичком остатки вещей и все картины. Теперь, сказал он с едва скрываемой горечью, места для них хватит, для всех, одной кроватью станет меньше, зато в достатке будет пространства для его «самодельного» искусства. Женька, конечно, не могла не заметить, что отец, как ни скрывал этого, расстроен её ранним самовольством, однако поделать с этим уже ничего не могла, да не хотела: как есть, так и будет. Тот же, несмотря на огорчение, вновь разобрал и уже собрал на новом месте, в её комнате в общежитии, дедов палисандровый столик. Сказал, за ним дедушка твой трудился, сама ты школьную жизнь, можно сказать, за ним же провела, так теперь пускай он снова при тебе окажется, глядишь, в большие люди выведет.
Вскоре после обустройства на новом месте, Адольф Иванович, как и намеревался, нанял грузовичок с крытым верхом и отчалил в посёлок прошлой жизни, туда – обратно, подбивать итоги прожитого и попутно закрыть тему нажитого за годы самодеятельного творчества. Именно тогда, отсчитывая от момента возвращения отца из Каражакала, началось медленное, но неизменно набирающее обороты отчуждение дочери и отца.
Он вернулся пустой, грузовик тот понадобился лишь для того, чтобы доставить его до места бывшего обитания, в одну сторону. Там всё было разграблено и испоганено нелюдями. Всё, совершенно всё было уничтожено, стёкла выбиты, шторы оборваны, мебель порушена и растащена, не хватало даже нескольких половых досок, вырванных и похищенных неизвестными. Картины, его картины, сотни его работ: масло, акварели, карандашные рисунки, уголь, пастель… всё это никуда не делось, но было изгажено, изорвано, измято. И не просто – по-звериному. Деревянные рамы и подрамники, самые простые и незатейливые, также исчезли, все до одной – вероятно, ими удобно было растапливать печь: будучи расколоты с одного несильного удара, они, как никакая другая растопка, подходили для этой понятной житейской цели.
Цинк вышел во двор и, расплатившись, отпустил грузовик. Ничего уже было не надо. Всё было кончено. Разумеется, он знал, что есть те, кто ненавидел его всегда. Да и на работе, ценя и отдавая должное его неутомимости и той пользе, которую он, являясь знатоком своего дела, приносил карьероуправлению, всё же заметно недолюбливали, и не слишком это скрывали. Причина была всё та же – происхождение и фамилия при нём, от одного запаха которой уже натурально кое-кого подташнивало. К тому же и другое наложилось, хотя причины и не совпадали: семья попала под раздачу, невольно, заодно, под сталинскую кампанию общей ненависти к инородной немчуре, вылившейся в депортацию безвинных обладателей кровей галлов, кельтов и тевтонов.
В тот день он понял, что не притронется больше к кисти. Это и на самом деле был конец. Край. Обрыв без пути обратно, наверх. Таков был его ответ равнодушной и бесчеловечной власти – тем, кто насильно, одним движением государева указа переселил в сорок первом полмиллиона его сородичей, назначив всех их, от семнадцати до пятидесяти, тайными врагами собственного народа, и обрёк на рабское прозябание на стройках народного хозяйства. Это решение, принятое им больше от бессилия и отчаяния, а не как результат дурной и пустой мести никому, был тем единственным способом личного протеста, который Адольф Иванович сумел для себя принять. Он просто лишал их, негодяев всех мастей, своих будущих картин, всех и навсегда, перегородив им доступ к своей мятущейся, не находящей выхода душе. Он сам, собственными усилиями останавливал теперь в себе свободное человеческое начало, зовущее радовать и творить, – всё то, что обещала хрущёвская оттепель. Он замыкал последние контакты между минувшим и, казалось ему, окончательно уже исчерпанным рабством и так и не осуществлённой надеждой на перемену одной жизни на другую; он заключал себя под собственную неусыпную стражу, перестав верить людям.
Ещё раньше, в первый раз столкнувшись с их преступной политикой в отношении нормальных, честных и живых людей, он поначалу не поверил. Он был совсем ещё молод, только закончил школу, но уже был достаточно разумен: да и память, в отличие от зрения, не страдала слабостью до такой степени, чтобы всё это до конца жизни не въелось в кожу, в мозг, в затвердевшую насмерть газетную картинку в чёрной обводке. Это было начало отторжения себя от них. Именно тогда, в сорок первом, через короткое время после начала войны – Адольф этого не забыл – самым концом августа, кажется, датировалось это страшное Постановление Совета Народных Комиссаров и ЦК ВКП (б) – и он своими глазами прочитал этот текст в газете «Большевик», – согласно которому переселению подлежали все без исключения немцы, жители городов и сельских районов, 350 тысяч в Сибирь и до 100 тысяч в Казахстан: поволжские, крымские, северокавказские и всякие остальные. Это если не брать иные районы необъятной родины, приготовившей эшелоны для отправки строительного человеческого материала инородной выделки.
Они же с отцом и крохотной Женькой приехали в посёлок в сорок четвёртом, и прибытие это, к несчастью, уже наложилось на прочно сформированное отношение к ним как к прихвостням подлого захватчика, шпионам, диверсантам и прочим недобиткам. Те, первые, которые уже, – кто так, кто сяк, – пристроился при карьерах и трудился, какие – разнорабочими, кто на подхвате, а кто – никак и нигде, выживали как умели, держались ближе один к другому: это помогало существовать, не быть окончательно выкинутыми из жизни. Да и какая жизнь, если так уж разобраться: жалкий посёлок, пыльные карьеры, разбитые самосвалами грунтовки, голые неприветливые земли, скудная степная почва, поросшая ковылём, полынью, репьём, не дающая радости трудиться на ней, чтобы сеять, заботиться, собирать урожай. Разве что глаз наткнётся иногда и на живое, нашедшее себе пристанище на иссохших пустынных землях: суслика порой встретишь, сурка, тушкана, а то и заяц пробежит или редко – и лис-корсак.
Тех переселенцев, кто сразу после конфискации имущества прибыл в эти места первым эшелоном и какое-то ещё время перебивался в Каражакале, ожидая решения своей участи, Цинки уже не застали, только слышали разговоры про них, по большей части недобрые. К осени 42-го согласно секретному Постановлению ГКО, подписанному Сталиным, всех в возрасте от 17-ти до 50-ти вывезли уже и отсюда и, соединив с остальными несчастными в рабочие колонны на всё время войны, отправили дальше, на строительство железной дороги Акмолинск – Карталы и Акмолинск – Павлодар. Кто-то из них по спецразнарядке НКВД попал на лесозаготовки, и местные, с разреза, спорили порой, кому из предателей повезло больше, тем или этим. Тотальной ненависти, наверное, всё же не было, тем более что не все верили в повальную измену носителей немецких фамилий и кровей, однако, заметного презрения в адрес депортированных тоже чаще не скрывали, чувствуя и невольно потакая установке власти.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Человек из Красной книги - Григорий Ряжский», после закрытия браузера.