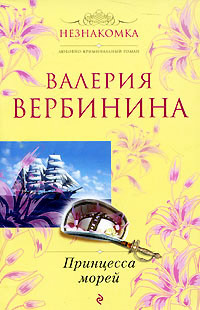Читать книгу "Гентианский холм - Элизабет Гоудж"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Каждая из этих рубах была произведением искусства, и мысль о том, что предназначалась она для крестьянского труда, повергла бы в ужас современную женщину. Матушку же Спригг, без устали стиравшую и утюжившую их только для того, чтобы все это так же без устали снова пачкалось и мялось, такие мысли не посещали. Для ее мужа и для нее сама работа на ферме была не пресловутой лямкой, которую им приходилось тянуть, чтобы добыть себе пропитание, но самой жизнью, вещью почетной, каковой они гордились, и, не отдавая себе в этом отчета, наделяли свой труд чуть ли не религиозной пышностью и обрядовостью. Прекрасная одежда предназначалась для работы, в которую вплетались стародавние праздники, и все сопровождалось своим особым ритуалом, из которого нельзя было выбросить ни одной самой ничтожной мелочи. И у каждого наряда, каждого праздника и обычая была своя пора цветения, как бывает она у злаков и плодов земли, и все это сливалось в едином ритме мирового круговорота, прибывания и убывания луны, зимнего и летнего солнцестояния, череды дождей и ветров, снегопадов и рос.
Отец Спригг казался олицетворением этой великолепной гармонии. При одном только взгляде на него можно было распознать многочисленные добродетели, привлекательную внешность, мудрость и силу, и все это в столь тесном согласии и равновесии друг с другом, что не убавить и не прибавить. Даже его пылкий, как жаркий день во время жатвы, темперамент, нельзя было записать ему в недостатки — столь великолепное частенько находилось ему применение. Ибо не было в отце Спригге мелочности, и хоть подчас он заходил слишком далеко, но никогда не забирал слишком круто. Он мог в пылу дневных трудов обрушиться на вас, как ураган или снежная лавина, и стереть вас в порошок, но никогда не стал бы он с расчетливой злобой ранить вас злословием или отнимать даже самую ничтожную малость, которая, как он считал, принадлежит вам по праву.
Стелле, чувствительной, любящей приключения, такая натура отца Спригга была по душе. Она бросилась в его объятия, как падала бывало в луговые травы и лежала в них, раскинув руки и уткнувшись подбородком в теплую землю. И то и другое — и крепкие руки отца Спригга, и тепло травы на лугах — рождало в ней восхитительное чувство единения с ним. Многие справедливо считали, что Стелла любит отца больше всех, не догадываясь однако, что чем сильнее любит эта девочка, тем скупее проявляет свои чувства.
— Ах ты, девка! — сказал отец Спригг, ощутив, как прильнуло к нему маленькое тельце — как воробушек. — Полегче, девка, как бы ты меня не опрокинула!
Это была любимая шутка. Стелла прижалась к рабочей блузе отца Спригга, с удовольствием вдыхая запах древесного дыма, которым та пропиталась. Дым сжигаемых сучьев и веток она считала одним из самых восхитительных осенних запахов, почти таким же приятным, как запах черной смородины или тыквенного джема. Потом девочка нырнула под руку отца Спригга и вгляделась в сгущавшиеся тени.
— Ходж? — чуть слышно прошептала она, протягивая ручонку. В ее ладошку ткнулся холодный нос, после чего руку лизнул теплый язык. Это был пес Ходж. Довольная Стелла с облегчением вздохнула. Ходж был одним из ее любимцев, вот зачем он такой отчаянный, драчун и забияка? Стелла все время боялась, что однажды объявится враг, еще более отчаянный, и Ходжу окажется не по зубам одолеть его даже при всей его удали. Но сейчас пес снова был в безопасности, под защитой стен их крепости, и до утра ей можно было не беспокоиться о нем.
Из приоткрытой двери на кухню вдруг пахнуло дивным запахом лука. Все трое заторопились на кухню, где матушка Спригг черпаком разливала овощной суп. Серафина возилась в своей корзине. Мэдж, доярка, проходила мимо открытой двери, неся с маслодельни масло, сыр и большое голубое блюдо с густыми топлеными сливками. Соломон Доддридж, пахарь, уже вошел через заднюю дверь, уселся на стул возле камина, по левую сторону от огня. Это было его постоянное место, принадлежавшее ему по праву. Узловатые руки Доддридж положил на колени, а в зубах зажал короткую глиняную трубку. Он и Мэдж были единственными из всех хуторских работников, которые ночевали в усадьбе и вместе с отцом и матушкой Сприггами, Стеллой, Серафиной и Ходжем составляли тесно спаянную семью преданных друг другу домочадцев. Об этом никогда не говорили вслух, но в глубине души все осознавали свое родство, для них это было так же просто, как ходить по твердой земле и не задумываться, не покачнется ли она у них под ногами, а что касается Серафины, так ей это родство было еще и выгодно.
Старый Сол не знал, сколько ему лет, понятия не имел, крестили его или нет и не знал о себе ничего, кроме того, что с детства работает на хуторе Викаборо, ест здесь, спит здесь и здесь же умрет. Раньше он, наверное, помнил о себе побольше, а теперь позабыл все на свете — ведь если уж он не знал, сколько ему лет, значит, возраст у него был самый что ни на есть почтенный. Сол помнил рождение батюшки Спригга и помнил, что уже тогда юность у него осталась позади, и его то и дело мучили приступы ревматизма. Теперь же ревматизм скрючил его в три погибели, и когда он вставал, опираясь на палку, то напоминал Стелле старую шелковицу, растущую у каменной стены сада, главный ствол которого давно уже врос бы обратно в землю, если бы его не подперли рогатиной.
Старик Сол теперь и в самом деле больше походил на дерево, чем на человека. Руки и ноги его напоминали ломкие старые ветви, лицо побурело и стало похожим на кору, а седая борода-стерня смахивала на лишайник, выросший на старой-престарой яблоне. Голос его превратился в воронье карканье, а из-за полного отсутствия зубов понять, что он говорит, можно было с превеликим трудом. Зато черные глаза его блестели весело, как у дрозда, чувство юмора никогда не покидало старого Сола, и, как это ни странно, он по-прежнему ловко пахал плугом землю и как прежде уверенно выводил басовые ноты прекрасных мистических песнопений, — ими девонские пахари вдохновляли скотину, которую впрягали в плуг. И, действительно, без Соловых песнопений викаборские быки вообще отказывались пахать. Как только пение прекращалось, они как вкопанные вставали в борозде и вместе с ними замирали чайки, которые кругами летали над плугом. Песнопения эти, казалось, приводили их всех в движение, точно так же, как, говорят, и пение звезд заставляет вертеться всю вселенную и лететь своим путем.
Происхождение Мэдж тайны не составляло. После смерти родителей ее вместе с другими детьми отправили в работный дом, тогда ей было десять лет, а в двадцать один на Викаборскую ферму, где работала и по сей день. Со стороны отца и матушки Сприггов она впервые в жизни увидела к себе доброе отношение и была предана им, а Стелле по гроб жизни.
Это была пышущая здоровьем хохотушка, с веснушчатым личиком и вздернутым носиком, за работой она обычно певала, но большой разговорчивостью не отличалась. Сколько над ней ни бились, никому так и не удалось научить ее читать, писать или вычитать из пяти два, зато равных ей ключниц и молочниц не было во всем Западном крае.
Серафина была раскормленная, полосатая кошка, на вид совсем домашняя, на конюшне держали еще трех котов, чтобы те ловили дворовых крыс, но в доме жила она одна. Вообще-то ей полагалось ловить домашних мышей, но она была так занята воспитанием котят, что на мышей времени у нее почти не оставалось. Ни у одной кошки не бывало столько котят, сколько у Серафины. Когда она впервые, еще котенком появилась на ферме, отец Спригг как раз читал вслух во время вечерней молитвы заповедь «Плодитесь и размножайтесь», и похоже, что Серафина приняла ее чересчур близко к сердцу.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Гентианский холм - Элизабет Гоудж», после закрытия браузера.